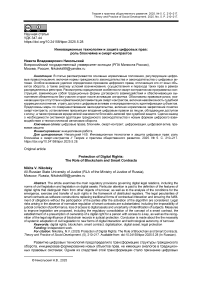Инновационные технологии и защита цифровых прав: роль блокчейна и смарт-контрактов
Автор: Никольский Н.В.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 5, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются основные нормативные положения, регулирующие цифровые правоотношения, включая нормы гражданского законодательства и законодательства о цифровых активах. Особое внимание уделено определению признаков цифрового права, отличающих его от иных объектов оборота, а также анализу условий возникновения, осуществления и перехода таких прав в рамках распределенных реестров. Рассмотрены юридические особенности смартконтрактов как программных конструкций, заменяющих собой традиционные формы договорного взаимодействия и обеспечивающих выполнение обязательств без участия сторон после активации алгоритма. Обоснованы правовые риски, возникающие при отсутствии нормативной регламентации смартконтрактов, включая невозможность судебной коррекции исполнения, утрату доступа к цифровым активам и неопределенность идентификации субъектов. Предложены меры по совершенствованию законодательства, включая нормативное закрепление понятия смартконтракта, установление презумпции владения цифровым правом за лицом, обладающим доступом к ключу, а также признание юридической значимости блокчейнзаписей при судебной защите. Сделан вывод о необходимости системной адаптации гражданского законодательства к новым формам цифрового взаимодействия и технологической автономии оборота.
Цифровые права, блокчейн, смарт-контракт, цифровизация, цифровой актив, правовая защита
Короткий адрес: https://sciup.org/149148041
IDR: 149148041 | УДК: 347.44 | DOI: 10.24158/tipor.2025.5.28
Текст научной статьи Инновационные технологии и защита цифровых прав: роль блокчейна и смарт-контрактов
прав в качестве самостоятельного объекта правового регулирования. Их ключевая особенность заключается в реализации исключительно через программно определенные механизмы, функционирующие в замкнутой информационной системе, чаще всего – на базе технологии распределенных реестров. Подобная конструкция предопределяет пересмотр классических подходов к понятию имущества, формам совершения сделок и способам исполнения обязательств.
Наиболее перспективным инструментом цифровизации частноправовых отношений представляется смарт-контракт – алгоритм, реализующий заранее закодированные условия исполнения обязательств, не требующих волеизъявления сторон после его активации. Однако его правовая природа до настоящего времени остается дискуссионной. Блокчейн-технологии, лежащие в основе функционирования цифровых прав и смарт-контрактов, ставят под сомнение уместность прежнего нормативного аппарата, ориентированного на бумажную форму фиксации прав и централизованное удостоверение их принадлежности.
Актуальность настоящего исследования обусловлена необходимостью комплексной правовой оценки существующего нормативного регулирования цифровых прав, построенных на базе блокчейн-технологий, а также осмыслением доктринальных подходов к проблеме правовой квалификации смарт-контрактов. Цель работы – выявить особенности функционирования цифровых прав в информационной системе, проанализировать пределы применения блокчейна и смарт-контрактов в договорной практике и обозначить риски, возникающие в условиях нормативной неопределенности. В качестве методологической базы используются формально-юридический и системный методы.
Введение в российскую правовую систему категории цифровых прав стало отражением стремления к институционализации имущественных отношений, формируемых в среде децентрализованных цифровых платформ. С принятием статьи 141.1 Гражданского кодекса Российской Федерации1 (далее – ГК РФ) был закреплен правовой режим обязательственных и иных прав, реализация и распоряжение которыми осуществляются исключительно в информационной системе, функционирующей на основании программного протокола, соответствующего установленным законом признакам.
В рамках действующего законодательства цифровыми признаются только те права, которые прямо названы в качестве таковых законом, а также осуществляются в особой технической форме – без обращения к третьему лицу и исключительно в пределах соответствующей информационной среды. Такое определение формирует основу для технологически автономного оборота прав, что предполагает, во-первых, децентрализацию юридических механизмов удостоверения прав, а во-вторых, «автоматизацию сделок, включая переход прав и ограничение распоряжения ими» (Купчина, 2023: 236).
В то же время предложенная конструкция порождает ряд теоретических и практических вопросов. Во-первых, остается дискуссионным вопрос о соотношении цифровых прав и традиционных имущественных прав. Наделение цифровых прав исключительно обязательственным содержанием приводит к неоправданному сужению их правовой природы, поскольку многие цифровые активы могут носить абсолютный характер, сопоставимый с вещным правом.
Во-вторых, отсутствует системное разграничение между цифровыми правами как особой формой реализации имущественных интересов и иными правами, которые могут быть реализованы через цифровые платформы, но не подлежат квалификации как цифровые. Такое неопределенное положение приводит к невозможности универсального применения норм статьи 141.1 ГК РФ и осложняет формирование судебной практики по делам, связанным с оборотом цифровых активов.
Федеральный закон от 31.07.2020 №259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»2 (далее – Закон о цифровых активах) дополняет подход, сформулированный в ГК РФ, конкретизируя отдельные разновидности цифровых прав – цифровые финансовые активы и цифровую валюту. Согласно статье 1, цифровыми финансовыми активами признаются цифровые права, выпускаемые, учитываемые и обращающиеся в информационных системах, обеспечивающих внесение записей по технологии распределенного реестра. Такая нормативная конструкция сближает понятие цифрового актива с объектами прав, фиксируемыми на блокчейн-платформах.
Юридическое значение подобной формы реализации прав заключается в том, что право перестает существовать вне технической системы – его переход, ограничение или утрата обусловлены не волеизъявлением субъекта как таковым, а действием программного алгоритма, подтвер- жденным записью в реестре. Это позволяет говорить о формировании нового типа объектов – синтетических прав, сочетающих элементы информационного и гражданского регулирования.
Следует подчеркнуть, что в литературе неоднократно подчеркивалась недостаточность правового инструментария для полного регулирования данной категории отношений (Турицын, 2019: 226). В частности, цифровые права представляют собой юридически признанное проявление новой экономической реальности, и их нормативная конструкция не должна искусственно ограничиваться рамками традиционных обязательственных моделей (Яценко, 2020: 35).
В условиях отсутствия универсального подхода к правовой природе цифровых прав приоритетной задачей остается создание гибкого механизма правовой квалификации и защиты таких прав, не нарушающего внутренней логики гражданского законодательства. Очевидна потребность в разграничении цифровых прав как разновидности имущественных прав и иных форм информационной фиксации экономических интересов.
Зарубежная доктрина по проблеме правовой квалификации смарт-контрактов демонстрирует значительное разнообразие подходов, что обусловлено отсутствием единообразного понимания их правовой природы в различных правовых системах. Так, А. Липтон и С. Леви, анализируя практику США, подчеркивают двойственный характер смарт-контракта как технологического инструмента и правовой конструкции. Авторы отмечают, что исполнение обязательств через алгоритм не освобождает стороны от необходимости соблюдения традиционных требований контрактного права, включая согласование существенных условий договора и соблюдение принципов добросовестности1. При этом они указывают, что, несмотря на инновационную форму, смарт-контракт должен рассматриваться как разновидность классического договора, адаптированного к цифровой среде. В отличие от данной позиции, Европейский институт права акцентирует внимание на необходимости создания специального нормативного режима для смарт-контрактов, подчеркивая их автономный характер и выдвигая предложения по усилению правовой защиты потребителей, участвующих в цифровых сделках2.
Интересной представляется работа Эль Харрака, посвященная анализу применимости традиционных коллизионных норм к смарт-контрактам. Автор обосновывает, что существующие правила частного международного права часто оказываются неприменимыми к смарт-контрак-там из-за их полной децентрализации, и предлагает разработку новых норм, учитывающих трансграничный характер блокчейн-среды (El Harrak, 2022). Аналогичные проблемы идентифицирует Комиссия по праву Англии и Уэльса, обращая внимание на трудности не только при исполнении смарт-контрактов, но и при толковании их условий, так как алгоритмы не обладают свойствами естественного языка и не поддаются традиционным правилам интерпретации3. Сравнительный доктринальный анализ показывает, что зарубежная наука едина в признании необходимости пересмотра традиционных правовых конструкций и выработки гибких инструментов регулирования смарт-контрактов в условиях цифровой экономики.
Технология распределенных реестров (блокчейн) представляет собой особую архитектуру хранения и обработки данных, при которой записи о юридически значимых действиях фиксируются в виде непрерывной криптографически защищенной последовательности. В правовом аспекте она выполняет функции удостоверения фактов, аналогичные государственным реестрам, но без участия посредников и централизованного удостоверяющего органа (Захаркина, 2019: 28). Это обстоятельство принципиально изменяет привычную модель фиксации и оборота прав, создавая возможность формирования децентрализованных инфраструктур доверия.
Ключевая особенность блокчейн-технологии заключается в том, что внесенная в нее запись обладает свойствами неизменяемости, верифицируемости и одновременного доступа для всех участников системы. Такая конструкция позволяет использовать блокчейн как среду для возникновения, подтверждения и перехода прав – прежде всего, в цифровой форме. Согласно положениям ч. 6 ст. 2 Закона о цифровых активах, именно запись в информационной системе служит доказательством существования цифрового права, а ее отсутствие – основанием для отказа в признании такого права.
Блокчейн выполняет не вспомогательную, а нормативно значимую функцию - в нем сосредоточено юридическое существование права. Запись в блоке по своей значимости соотносима с государственной регистрацией прав на недвижимость, поскольку фиксирует наличие правомочия, определяет его владельца и может быть использована в судебном порядке для защиты нарушенного интереса (ч. 6 ст. 8.1 ГК РФ, ст. 12 ГК РФ).
В отличие от традиционных баз данных, информация в блокчейн-системе защищена от одностороннего изменения, что исключает возможность подделки прав или их несанкционированного перемещения. Это дает основание рассматривать технологию распределенных реестров как допустимую юридическую форму фиксации правомочий, в том числе в рамках гражданско-правового оборота.
Существенным вопросом остается характер владения цифровыми правами в блокчейн-си-стеме. Поскольку правомочие реализуется через криптографический доступ (ключ), лицо, обладающее ключом, в правовом смысле признается носителем соответствующего права. Отсюда возникает ряд затруднений, в том числе при утрате доступа или передаче ключей третьим лицам: правовая система, не располагая механизмами идентификации участника децентрализованной сети, не может применить классические способы защиты, построенные на принципе персонализации.
В настоящее время отсутствуют единые критерии оценки достоверности и юридической значимости данных, зафиксированных в децентрализованной системе (Русаков, 2019: 117). Отдельные нормы законодательства содержат лишь отсылки к техническим признакам информационной системы, достаточным для квалификации содержащихся в ней сведений как юридически значимых (например, ч. 1 ст. 3 Закона о цифровых активах), однако ни в ГК РФ, ни в специальных актах не урегулированы вопросы верификации этих данных, а также разрешения споров в случае возникновения расхождений между технической фиксацией и фактическим положением дел.
Технология смарт-контрактов представляет собой алгоритмическую конструкцию, обеспечивающую исполнение заранее закодированных условий обязательства в информационной системе без участия сторон на этапе исполнения. Такая модель реализует договорные условия посредством кода, размещенного в блокчейн-среде, что исключает возможность их последующего изменения и предполагает автоматическое наступление последствий при выполнении заложенных триггеров.
С юридической точки зрения смарт-контракт не является самостоятельным видом договора (Шушканов, Ряховская, 2022: 101). Его назначение заключается не в выражении согласованной воли сторон, а в автоматизации исполнения уже заключенного соглашения. Однако в условиях цифрового оборота различие между заключением и исполнением стирается: алгоритм может одновременно отражать согласованные условия и обеспечивать их реализацию. Такая конструкция предполагает пересмотр традиционных представлений о содержании и форме гражданско-правового договора (Рузакова, 2019: 5).
Нормативное регулирование смарт-контрактов в российском праве на данный момент фрагментарно. Прямое упоминание отсутствует как в Гражданском кодексе Российской Федерации, так и в иных актах. Вместе с тем положения ч. 1 ст. 3 Закона о цифровых активах предусматривают возможность совершения сделок с цифровыми финансовыми активами при наступлении определенных обстоятельств без дополнительного волеизъявления сторон, что, по существу, отражает функциональные свойства смарт-контракта.
Аналогично ст. 309 ГК РФ устанавливает обязанность исполнения обязательств надлежащим образом в соответствии с условиями договора и требованиями закона. Если договором предусмотрено исполнение через программный код, сторона, согласившаяся на такую форму, не вправе уклоняться от ее последствий. В этом смысле смарт-контракт выступает как техническое средство исполнения, равнозначное, например, банковской автоматической операции или инкассо (Харитонова, 2021: 46).
Юридическая специфика смарт-контракта проявляется в отсутствии возможности внесудебного оспаривания факта исполнения: результат определяется системой без учета внешних обстоятельств. Такая однозначность повышает предсказуемость исполнения, но одновременно создает риск невозможности корректировки условий в случае существенного изменения обстоятельств. В традиционном договоре стороны вправе прибегнуть к судебной коррекции условий; в смарт-контракте такой механизм отсутствует.
Дополнительные сложности возникают при необходимости интерпретации содержания алгоритма. Код не обладает свойствами естественного языка и не поддается применению общих правил толкования условий договора. Это затрудняет разрешение споров в случае расхождений в понимании сторонами программной логики. В условиях отсутствия нормативных требований к структуре и языку смарт-контрактов такие разногласия становятся вероятными и требуют правового решения.
Кроме того, юридически значимыми становятся вопросы идентификации сторон, участвующих в алгоритмической сделке. В условиях анонимности блокчейн-среды и отсутствия регламентации идентификационных процедур в российском праве реализация принципа правосубъектности становится затруднительной. Без надежной привязки между субъектом права и владельцем криптографического ключа невозможна эффективная правовая защита интересов участников.
В результате смарт-контракт представляет собой перспективный инструмент автоматизации исполнения обязательств в цифровой среде, однако его использование требует нормативной фиксации правового статуса, условий допустимости и процедур урегулирования споров, связанных с исполнением. Без этого технология остается за пределами правового поля, несмотря на признание ее значимости для цифрового оборота.
Расширение цифрового оборота сопряжено с возникновением новых форм правонарушений, охватывающих несанкционированный доступ к криптографическим ключам, подмену блоков реестра, а также утрату доступа к цифровым активам в результате технического сбоя. В условиях, когда право реализуется в среде, не обладающей централизованным механизмом разрешения споров, правовая защита интересов участников становится затрудненной. Это в полной мере относится к цифровым правам, обращающимся в блокчейн-системах, и к обязательствам, исполняемым посредством смарт-контрактов (Одинцов, 2019: 75).
Согласно положениям ст. 11 ГК РФ, защита нарушенного или оспариваемого гражданского права осуществляется в судебном порядке. Однако в случае цифровых прав обращение в суд наталкивается на сложность доказательства факта владения, утраты или неправомерного присвоения права. В отличие от традиционного имущества, владение цифровым правом удостоверяется не регистрационной записью, а принадлежностью криптографического ключа, который может быть утерян, скомпрометирован или передан иному лицу без следов в правовой плоскости.
Особую сложность представляет восстановление прав в случае их нарушения. При утрате доступа к информационной системе, обслуживающей соответствующий блокчейн, или при компрометации ключа отсутствует правовой механизм для признания права за конкретным лицом. Статья 12 ГК РФ предусматривает разнообразные способы защиты, включая признание права, восстановление положения, существовавшего до нарушения, и пресечение действий, нарушающих право. Однако их применение в цифровой среде требует нормативной конкретизации, включая порядок идентификации лица, обратившегося за защитой, и допустимость технических доказательств (Ягубян, 2022: 86).
Сложность представляет и определение надлежащего ответчика. При использовании смарт-контракта правонарушение может быть совершено не субъектом, а алгоритмом, действующим без постоянного управления. Это вызывает затруднение в квалификации действий как правонарушения, поскольку отсутствует лицо, сознательно нарушившее обязательства. Более того, вопросы юрисдикции и применимого права при разрешении споров, связанных с трансграничными цифровыми транзакциями, не урегулированы на уровне международных соглашений, что существенно осложняет правовую защиту.
Принцип автономности блокчейн-систем исключает вмешательство извне. Поэтому суд, даже признав нарушение, зачастую не может воздействовать на результат – изменить запись в реестре, отменить исполнение смарт-контракта или восстановить владение. Это означает, что защита права может быть декларативной, если технически реализация судебного акта невозможна. Правоприменение оказывается в зависимости от архитектуры программного кода, что противоречит основополагающим принципам гражданского права. Зарубежная судебная практика подтверждает сложность правовой квалификации смарт-контрактов и цифровых активов, выявляя как коллизии норм, так и новые векторы правоприменения. Особое значение имеет дело SEC против Ripple Labs, Inc., рассмотренное в США в 2023–2025 гг. Суд, анализируя статус токенов XRP, пришел к выводу, что институциональные продажи цифровых активов подпадают под регулирование закона о ценных бумагах, в то время как программные продажи на биржевых платформах не имеют аналогичного характера1. Этот прецедент подчеркнул различие между традиционными обязательственными отношениями и децентрализованной цифровой дистрибуцией, что имеет прямое значение для разработки правовой конструкции цифровых прав.
Интересное развитие получила правовая позиция в деле OFAC против Tornado Cash, где Апелляционный суд США установил, что смарт-контракты, выполняющие функции криптовалютного миксера, не могут рассматриваться как «собственность» в классическом юридическом смысле2. Этот вывод акцентирует внимание на необходимости адаптации правовых категорий к новым цифровым реалиям.
Германская практика по делу BGH XII ZR 89/21 продемонстрировала консервативный подход: суд подтвердил, что цифровое управление активами не освобождает стороны от соблюдения классических обязательств по защите владения и запрету самоуправства1. Эти решения в совокупности подчеркивают необходимость нормативного закрепления специальных правил, регулирующих функционирование цифровых прав и исполнения обязательств через алгоритмические конструкции.
Указанные обстоятельства формируют устойчивую потребность в нормативной кодификации статуса цифровых прав, процедур их защиты и оснований для вмешательства в автономные цифровые процессы. В частности, требуется закрепление презумпции владения цифровым правом за лицом, обладающим доступом к верифицированному ключу, а также регламентация случаев, в которых возможна аннулирующая запись в блокчейн-системе на основании судебного акта. Такие подходы позволят интегрировать децентрализованные технологии в правовую систему без утраты управляемости.
Следовательно, развитие цифрового оборота требует формирования комплексной правовой конструкции, способной обеспечить эффективную защиту цифровых прав, независимо от особенностей их технологической реализации. Только при наличии четко установленных юридических механизмов доверие к инновационным формам имущественных отношений сможет обрести устойчивость. Действующее правовое регулирование цифровых прав и механизмов их реализации посредством блокчейн-технологий остается неполным и фрагментарным. Несмотря на наличие общих положений в ГК РФ и в Законе о цифровых активах, отсутствует единая нормативная система, позволяющая обеспечить полноту правового регулирования децентрализованных цифровых конструкций.
Прежде всего, требуется нормативное закрепление определения смарт-контракта как формы реализации договорных условий посредством программного алгоритма. Такая дефиниция должна учитывать специфику алгоритмического исполнения обязательств, отличающегося от классической модели по волеизъявлению сторон. Представляется целесообразным дополнить ГК РФ положением, допускающим реализацию обязательства посредством программного кода в случаях, когда стороны прямо согласовали такую форму исполнения. Это позволило бы устранить неопределенность и исключить споры о допустимости алгоритмического исполнения.
Следующим шагом должно стать нормативное разграничение цифровых прав и иных прав, осуществляемых в электронной форме. Необходимость такой дифференциации обусловлена тем, что цифровые права обладают технологической спецификой, отличающей их от прав, удостоверяемых с использованием электронного документооборота. Цифровые права реализуются не в силу соглашения сторон, а посредством действий, совершаемых в распределенной среде на основе заранее установленных алгоритмов. Это требует законодательного уточнения признаков цифрового права как объекта гражданского оборота.
Особого внимания заслуживает проблема интерпретации условий, содержащихся в смарт-контрактах. В отличие от договоров, составленных на естественном языке, содержание которых поддается толкованию, алгоритмическая конструкция исполняется буквально. В связи с этим возникает необходимость в выработке правовых стандартов, касающихся формы, структуры и условий допустимости смарт-контрактов, в том числе в части их совместимости с принципами добросовестности и разумности.
В целях правоприменительной определенности целесообразно установить правила, допускающие признание записей в информационных системах, основанных на технологии распределенных реестров, юридически значимыми доказательствами. Такая мера обеспечит возможность использования блокчейн-записей при судебной защите цифровых прав. Одновременно необходимо предусмотреть механизм разрешения коллизий между данными, зафиксированными в блокчейн-системе, и сведениями, содержащимися в иных информационных ресурсах, включая государственные реестры.
Отдельного нормативного урегулирования требует механизм внесения изменений в блок-чейн-записи по решению суда. Признание цифровых прав как объектов судебной защиты предполагает возможность восстановления нарушенного права. Однако в случае, если система не поддерживает возможность коррекции, защита утрачивает свою действенность. Следовательно, требуется законодательное закрепление обязанностей оператора системы обеспечивать техническую возможность внесения корректирующей записи, если это предписано судебным актом.
Наконец, целесообразно рассмотреть вопрос о разработке специальных правовых режимов для опосредования оборота цифровых прав и функционирования смарт-контрактов. Такие режимы могут предусматривать возможность применения исключений из общих правил гражданского законодательства, адаптированных к особенностям цифровой среды. Введение экспериментальных правовых режимов с ограниченным кругом участников и территориальным охватом позволит апробировать модели правового регулирования без риска системных сбоев.