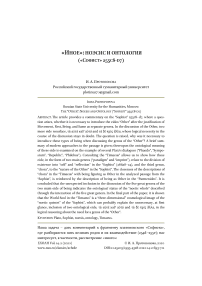"Иное": ноэсис и онтология ("Софист" 255C8-D7)
Автор: Протопопова Ирина Александровна
Журнал: Schole. Философское антиковедение и классическая традиция @classics-nsu-schole
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 2 т.14, 2020 года.
Бесплатный доступ
Статья представляет собой комментарий к фрагменту «Софиста» 255c8-d7, где речь идет о том, нужно ли после обоснования «движения», «покоя», «сущего» и «тождественного» как отдельных родов вводить в качестве необходимого род «иного». Здесь при обсуждении «иного» неожиданно появляются эйдосы τὰ αὐτὰ καθ' αὑτά и τὰ δὲ πρὸς ἄλλα, логическая необходимость которых в ходе рассуждения вызывает сомнения. Ставится вопрос, зачем понадобилось вводить эти виды сущего при обсуждении рода «иного»? Дается краткая сводка подходов к этому месту у современных комментаторов; затем рассматривается онтологический смысл этих эйдосов на примере нескольких платоновских диалогов («Федон», «Пир», «Государств», «Филеб»). Обращение к диалогу «Тимей» позволяет показать, как эти эйдосы в виде двух главных родов («парадигмы» и «отпечатка») соотносятся с делением сущего на «само» и «отражение» в «Софисте» (266a8-с4), а третий род, «хора», с «природой иного» из «Софиста». Продемонстрированная близость описания «хоры» в «Тимее» с сущим в качестве «иного» в разбираемом фрагменте «Софиста» подкрепляется описанием сущего как «иного» в «Пармениде». Делается вывод, что внезапное вкрапление в обсуждение пяти великих родов двух основных эйдосов сущего маркирует онтологический статус ноэтического целого, описанного взаимодействием великой пятерицы. В завершающей части статьи показано, что космическая душа в «Тимее» является «объемным» космологическим образом ноэтической пятерицы из «Софиста», чем и можно, вероятно, объяснить не нужное на первый взгляд вкрапление двух онтологических эйдосов τὰ αὐτὰ καθ' αὑτά и τὰ δὲ πρὸς ἄλλα в логическое рассуждение о необходимости рода «иного».
Платон,
Короткий адрес: https://sciup.org/147215892
IDR: 147215892 | DOI: 10.25205/1995-4328-2020-14-2-693-701
Текст научной статьи "Иное": ноэсис и онтология ("Софист" 255C8-D7)
Наша задача – дать комментарий к фрагменту платоновского «Софиста», где разбираются пять великих родов и их взаимодействие (254d–255e); нас интересует, в частности, рассмотрение «иного»:
ΣΧΟΛΗ Vol. 14. 2 (2020) © И. А. Протопопова, 2020 DOI:10.25205/1995-4328-2020-14-2-693-701
Ч[ужеземец]. Что же? Не следует ли нам назвать «иное» (τὸ θάτερον) пятым? Или его и сущее (τὸ ὄν) нужно мыслить как некие два имени для одного рода?
Т[еэтет]. Возможно.
Ч. Но, думаю, ты согласишься, что об одном из сущих (τῶν ὄντων) говорится, что оно существует само по себе (τὰ μὲν αὐτὰ καθ' αὑτά), другое же – всегда в отношении к другому (τὰ δὲ πρὸς ἄλλα).
Т. Конечно.
Ч. Но иное (ἕτερον) всегда [существует] по отношению к иному (ἕτερον), так ведь?
Т. Это так.
Ч. А было бы не так, если бы сущее (τὸ ὄν) и иное (τὸ θάτερον) не различались так сильно: ведь если бы иное (θάτερον) было причастно обоим эйдосам, как причастно им сущее (τὸ ὄν), тогда, пожалуй, нечто иное было бы иным не по отношению к иному (τι καὶ τῶν ἑτέρων ἕτερον οὐ πρὸς ἕτερον). Теперь же у нас просто получается, что чем бы ни было иное (ἕτερον), оно по необходимости должно быть тем, что есть по отношению к иному (ἐξ ἀνάγκης ἑτέρου τοῦτο ὅπερ ἐστὶν εἶναι).
Т. Как же иначе?.
Ч. Тогда среди эйдосов, которые мы выбрали, пятым существующим (οὖσαν) нам следует назвать природу иного (τὴν θατέρου φύσιν) (Sph. 255c8–d7, пер. И.А. Протопоповой).
Роль τὰ αὐτὰ καθ' αὑτά и τὰ δὲ πρὸς ἄλλα в Sph. 255c8–d7
Анализ взаимодействия пяти великих родов – это, на наш взгляд, «дианоэти-ческое» описание ноэтического акта, схватывающего реальность как различённое целое.1 Эти пять великих родов необходимы для существования ума («невозможно ведь согласиться на меньшее число, чем то, что выяснилось сейчас» Sph. 256d3–4), а их взаимодействие разбирается сжато и без лишних разъяснений. При разборе первых четырех родов («движение», «покой», «сущее» и «тождественное») не вводятся какие-либо дополнительные «сущие», однако при обсуждении «иного» вдруг появляются τὰ αὐτὰ καθ' αὑτά и τὰ δὲ πρὸς ἄλλα, причем о них говорится как о том, в существовании чего собеседники согласны. При этом вместо них сюда можно подставить «движение» и «покой» – будучи сущими и причастными иному как сущему, они будут тогда отличаться друг от друга не как иное от иного, т.е. перестанут быть проти- воположностями; то есть, ход рассуждения и необходимость введения «иного» как отдельного рода от этого не пострадает. Зачем же понадобилось вводить эти виды сущего при обсуждении «иного»?
Корнфорд отмечает эти два рода, но разбирает только τὰ δὲ πρὸς ἄλλα как род «относительного», сопоставляя его с аристотелевскими категориями (Cornford 1935, 281–285). Дюрлингер вспоминает в этом контексте «Федона» (Phd. 100e), где говорится о том, что прекрасное в качестве «относительного» существует лишь постольку, поскольку причастно прекрасному «как таковому», но не объясняет, зачем в этом месте «Софиста» понадобилось такое разграничение (Duerlinger 2009, 59). Амбюэль, комментируя этот пассаж, говорит, что анализ сущего с точки зрения «самотождественности» и «ина-ковости» ведет к прекращению разговора о «сущностях», позволяя выдвигать только негативные дефиниции (Ambuel 2007, 159). Хайдеггер рассматривает это место подробнее: он делает акцент на «говорится» (λέγεσθαι), подчеркивая, что при «говорении» мы всегда говорим о чем-то как «самом по себе» и о чем-то «в отошении к другому», и выдвигает предположение, что лингвистический смысл πρός τι является здесь концептуальным обоснованием «иного» (Heidegger 2003, 376–378). Однако в дальнейших пассажах диалога подчеркивается именно онтологический, а не дискурсивный, смысл «иного», и введение τὰ αὐτὰ καθ' αὑτά и τὰ δὲ πρὸς ἄλλα остается, на наш взгляд, у Хайдеггера в этом месте не проясненным. Розен вообще исходит из того, что в словах «если бы иное (θάτερον) было причастно обоим эйдосам» под эйдосами подразумеваются «бытие» и «инаковость» (Rosen 1983, 269– 270). Тем самым затушевываются специфические формы выражения τὰ αὐτὰ καθ' αὑτά и τὰ δὲ πρὸς ἄλλα, которые в таком или несколько видозмененном виде, но практически с одинаковым смыслом, встречаются в разных платоновских диалогах. Кэмпбелл считает, что здесь различаются «абсолютное» (τὰ αὐτὰ καθ' αὑτά) и «относительное» (τὰ δὲ πρὸς ἄλλα) как отдельные самостоятельные эйдосы, которые, однако, упомянуты в данном месте походя (Campbell 1867, 152); он указывает на совпадающее выражение «самотожде-ственного» в «Филебе» (Phlb. 51с6–7). Обратимся к этому примеру, а также к некоторым другим, чтобы попытаться дать свою трактовку появления этих двух эйдосов в данном фрагменте.
Τὰ αὐτὰ καθ' αὑτά и τὰ δὲ πρὸς ἄλλα: онтологический контекст
-
1. В «Филебе» разговор о них появляется в контексте подлинных удовольствий, которые вызываются не красками, очертаниями, запахами и звуками, но тем, что Сократ называет вечно прекрасным самим по себе, по своей природе, то есть прекрасным не по отношению к чему-либо, как это можно
-
2. В «Пире» такое противопоставление тоже появляется в разговоре о прекрасном – Диотима описывает Сократу «прекрасное само по себе» (αὐτὸ τὸ καλόν) как то, что не знает «ни рождения, ни гибели, ни роста, ни оскудения», «не в чем-то прекрасное, а в чем-то безобразное, не когда-то, где-то, для кого-то и сравнительно с чем-то прекрасное, а в другое время, в другом месте, для другого и сравнительно с другим безобразное» (Smp. 211a1-5). Здесь «прекрасное само по себе» вечно и неизменно, в отличие от всего чувственного, включенного в процесс рождения и гибели; оно чисто и беспримесно, и нет ничего лучше, если бы «божественное прекрасное можно было увидеть во всем его единообразии» (αὐτὸ τὸ θεῖον καλὸν δύναιτο μονοειδὲς κατιδεῖν; Smp. 211d1-e4, пер. С.К. Апта).
-
3. В «Федоне» мы видим все то же противопоставление двух сущностей: неизменной и одинаковой и всегда изменяющейся, иной. «Та сущность, бытие которой мы выясняем в наших вопросах и ответах, – что же, она всегда неизменна и одинакова или в разное время иная?» (αὐτὴ ἡ οὐσία ἧς λόγον δίδομεν τοῦ εἶναι καὶ ἐρωτῶντες καὶ ἀποκρινόμενοι, πότερον ὡσαύτως ἀεὶ ἔχει κατὰ ταὐτὰ ἢ ἄλλοτ' ἄλλως; Phd. 78de, пер. С.П. Маркиша). Это такие сущности, как «равное само по себе» (αὐτὸ τὸ ἴσον), «прекрасное само по себе» (αὐτὸ τὸ καλόν) и всё «единообразное и существующее само по себе, всегда неизме-ное и одинаковое и никогда, ни при каких условиях не подверженное ни малейшему изменению» (μονοειδὲς ὂν αὐτὸ καθ' αὑτό, ὡσαύτως κατὰ ταὐτὰ ἔχει καὶ οὐδέποτε οὐδαμῇ οὐδαμῶς ἀλλοίωσιν οὐδεμίαν ἐνδέχεται). С другой стороны, Сократ противопоставляет таким сущностям прекрасные вещи, одноименные (ὁμωνύμων) упомянутым, но иные: они «буквально ни на миг не остаются неизменными ни по отношению к самим себе, ни по отношению друг к другу (οὔτε αὐτὰ αὑτοῖς οὔτε ἀλλήλοις οὐδέποτε ὡς ἔπος εἰπεῖν οὐδαμῶς κατὰ ταὐτά). В «Федоне» же устанавливаются два вида сущего (δύο εἴδη τῶν ὄντων) – зримое (τὸ μὲν ὁρατόν) и безвидное (τὸ δὲ ἀιδές), при этом безвидное всегда остается само по себе, а зримое никогда не является самим по себе (τὸ μὲν ἀιδὲς ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ ἔχον, τὸ δὲ ὁρατὸν μηδέποτε κατὰ ταὐτά 79a).
-
4. В «Государстве» «видимое» и «безвидное» «Федона» трансформируется в «видимое» и «умопостигаемое» как две основные сферы сущего, описанные в «разделенной Линии» (R. 509–511) и в аллегории Пещеры (R. 514–517).
сказать о других вещах (ταῦτα γὰρ οὐκ εἶναι πρός τι καλὰ λέγω, καθάπερ ἄλλα, ἀλλ' ἀεὶ καλὰ καθ' αὑτὰ πεφυκέναι καί τινας; Phlb. 51с6–7). Прекрасное «по отношению к чему-то» (πρός τι καλὰ) связано с чувственным восприятием, прекрасное «само по себе» (καλὰ καθ' αὑτὰ) нет.
Таким образом, в «Федоне», «Пире», «Государстве», «Филебе» мы видим вполне разработанную концепцию двух основных видов сущего, где одно – то, что существует «само по себе», а другое – то, что всегда изменяется и существует только относительно иного. Приведенные примеры вполне очевидно фиксируют, что эти сферы сущего являются ключевыми для онтологии Платона, и мы привели их лишь для того, чтобы продемонстрировать: форма их описания практически идентична тому, что чеканно формулируется в нашем фрагменте «Софиста» (τὰ αὐτὰ καθ' αὑτά и τὰ δὲ πρὸς ἄλλα). Повторим после этого вопрос, поставленный в начале статьи: в чем смысл появления этих эйдосов в контексте обсуждения «иного» как одного из пяти великих родов?
Иное и образы: три рода «Тимея» и «Парменид»
Для ответа обратимся к «Тимею», в котором обсуждаемые два вида эйдосов описаны как два основных рода бытия. Первый – это «отец», «парадигматический эйдос» (παραδείγματος εἶδος), существующий как мыслимое и всегда самотождественное (νοητὸν καὶ ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ ὄν), второй – «отпрыск», «отпечаток», подражание парадигме, имеющее рождение и зримое (μίμημα δὲ παραδείγματος δεύτερον, γένεσιν ἔχον καὶ ὁρατόν Ti.48e5-49a1). Нетрудно увидеть, что это трансформация двух обсуждаемых нами эйдосов.
В третьей части «Софиста» они проявятся как необходимые области сущего через различение «самого» и «образа» в разделении божественного и человеческого творчества: в каждой части одна – собственно творческая (αὐτοποιητικόν), то есть творящая нечто «само», а другую в каждом разделе можно назвать образотворческой, то есть производящей «отражения» (εἰδωλοποιικώ) (266a8–с4). Уже в первой части «Софиста», когда выяснилось, что основное занятие софиста – мимесис, возникла задача различить его виды, а в начале средней части диалога ставится вопрос о том, что такое образ в принципе, на что Теэтет дает знаменательный ответ: «но что же, Чужеземец, могли бы мы сказать про образ (εἴδωλον), кроме того, что он – уподобленное истинному такое же иное » (τὸ πρὸς τἀληθινὸν ἀφωμοιωμένον ἕτερον τοιοῦτον) Sph. 239е3–240b2).
Возвращаясь к «Тимею», мы видим, что существование такого же иного предполагает не только образец, но и еще один род, о котором поначалу речи не было. В Ti. 49a вторично вводится описание двух главных родов, но после этого «внезапно» появляется третий, который сначала выступает под именем «кормилицы» и «восприемницы» (Ti. 49–51), а затем выступает как хора: «в-третьих, есть еще один род, а именно пространство (τρίτον δὲ αὖ γένος ὂν τὸ τῆς χώρας): оно вечно, не приемлет разрушения, дарует обитель всему рождающемуся, но само воспринимается вне ощущения, посредством некоего незаконного умозаключения, и поверить в него почти невозможно» (Ti. 52a1–c6, пер. С.С. Аверинцева).
Этот род мы «видим во сне» (ὀνειροπολοῦμεν βλέποντες) и «в сонном забытьи переносим на непричастную сну природу истинного бытия» (περὶ τὴν ἄυπνον καὶ ἀληθῶς φύσιν ὑπάρχουσαν ὑπὸ ταύτης τῆς ὀνειρώξεως), считая, что всё должно находиться в каком-то «месте». Это значит, что мы всё представляем как нечто «пространственное», то есть имеющее какой-то образ, тогда как подлинное бытие – вне всякого образа (ср. R. 510b). Что касается образа, он не сам является причиной собственного рождения, но всегда носит призрак чего-то иного (ὡς εἰκόνι μέν, ἐπείπερ οὐδ' αὐτὸ τοῦτο ἐφ' ᾧ γέγονεν ἑαυτῆς ἐστιν, ἑτέρου δέ τινος ἀεὶ φέρεται φάντασμα), потому ему и «подобает возникать внутри чего-то иного, как-то ухватившись за сущность, или вообще быть ничем» (διὰ ταῦτα ἐν ἑτέρῳ προσήκει τινὶ γίγνεσθαι, οὐσίας ἁμωσγέπως ἀντεχομένην, ἢ μηδὲν τὸ παράπαν αὐτὴν εἶναι Ti. 52c2–5).
И вот тут самое время вспомнить, что в разбираемом нами фрагменте «Софиста» эйдосы τὰ αὐτὰ καθ' αὑτά и τὰ δὲ πρὸς ἄλλα появляются в контексте обсуждения рода «иного». Здесь говорится о том, что иное должно быть иным всегда по отношению к иному, а если мы отождествим сущее с иным, то эти эйдосы, как существующие, окажутся неразличимыми в качестве «одинаково иного» и не будут отличаться друг от друга как иное от иного. Это значит, что ничто не сможет различаться как «само» и «образ» – сплошной поток «образов» перестанет быть отражениями чего-то, поскольку иного («самого») по отношению к отражению не будет. Такое существование «сущего как иного» представляет собой, говоря языком «Тимея», некий симбиоз второго рода, «отпечатка», и третьего, «хоры», при исключении первого – парадигмы.
Введение в «Софисте» этих двух видов сущего (τὰ αὐτὰ καθ' αὑτά и τὰ δὲ πρὸς ἄλλα) в обсуждение иного показывает, что если сущее приравнять к иному, то мир предстанет как онейроидная вселенная, состоящая из фан-тазмов, в которых не будут различаться истина и ложь. Если мы примем иное как сущее , то получим мир без парадигмы, где нет отличения «оригинала» от «копии», «подлинного» от «кажущегося», это своеобразная вселенная «симулякров» Делёза, в которой нет места «образцам» (Делез 1998).
Такая сплошная мнимость описана в седьмой гипотезе «Парменида», где обсуждается существование иного в случае, если единое не существует.
«Значит, каждое <из всего другого> будет другим по отношению к любому другому во многих отношениях, поскольку в одном отношении это невозможно, раз одного нет. Поэтому, как представляется, любой их набор будет беспредельным по множеству, так что даже если взять то, что кажется самым малым, то внезапно – словно некое видение во сне (ὥσπερ ὄναρ ἐν ὕπνῳ) – появляется многое вместо того, что казалось единым, и вместо казавшегося мельчайшим – нечто огромное, возникающее по ходу его дробления» (Prm. 164c6–d4, здесь и далее пер. Ю.А. Шичалина).
Весь этот фрагмент представляет собой описание вечной кажимости, постоянного обмана «зрения»; в частности, здесь возникает образ картины, скиаграфии (ἐσκιαγραφημένα), предметы на которой издалека кажутся сходными, «но когда подойдешь, они кажутся чем-то множественным и отличаемым и в силу этого призрака иного (τοῦ ἑτέρου φαντάσματι) оказываются совершенно иными и несходными сами с собой» (165c7–d2). Этот образ присутствует в «Софисте», где Чужеземец сравнивает миметические словесные картины софистов с живописью, обманывающей юношей (Sph. 234b5–10), и в «Теэтете», где Сократ в завершение рассуждения о знании признаёт, что «издали» проведенные рассуждения казались ему ст о ящими, а вблизи оказалось, что он находится перед «скиаграфией», обманной «те-неписью» (Tht. 208e).
Теперь, сопоставляя картины «сущего как иного» в «Тимее» и в «Пармениде», отметим, что в первом случае обсуждаемые роды имеют онтологический статус, а во втором «иное» и другие эйдосы рассматриваются как логические гипотезы. Какую же роль они играют в «Софисте»?
Пять великих родов – это то, что необходимо для существования ума, и рассмотрение их взаимодействия на уровне дианойи отражают ноэсис как «невидимую» деятельность вечносущей парадигмы. Для анализа взаимоотношений пятерицы в данном месте диалога нет необходимости введения двух онтологических родов, τὰ αὐτὰ καθ' αὑτά и τὰ δὲ πρὸς ἄλλα, поскольку логика взаимодействия пяти эйдосов выдерживается и без них. На наш взгляд, внезапное вкрапление двух основных эйдосов сущего в обсуждение пяти великих родов показывает онтологический статус того ноэтического целого, которое описывает взаимодействие великой пятерицы: это ни больше ни меньше, чем устроение космической души.
«Софист» и «Тимей»: великая пятерица и космическая душа
Пять великих родов в «Софисте» – те необходимые эйдосы, взаимодействием которых существует ум: это обосновывается уже в Sph. 248e–249d, где сначала описывается «совершенно сущее» как единый живой организм с душой, умом, движением и т. д., а потом говорится, что движение и покой необходимы для существования ума. Пятерица оказывается, как мы уже говорили, своего рода ноэтическим атомом – все роды различаются, но в единстве образуют некое нераздельное целое. Однако именно введение в обсуждение эйдосов τὰ αὐτὰ καθ' αὑτά и τὰ δὲ πρὸς ἄλλα показывает, что это за целое.
В «Тимее» при описании устройства космической души прямо указывается, из каких частей она составлена: «из той сущности, которая неделима и вечно тождественна (τῆς ἀμερίστου καὶ ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ ἐχούσης οὐσίας), и той, которая претерпевает разделение в телах (καὶ τῆς αὖ περὶ τὰ σώματα γιγνομένης μεριστῆς), он создал путем смешения третий, средний вид сущности, причастный природе тождественного и природе иного (τρίτον ἐξ ἀμφοῖν ἐν μέσῳ συνεκεράσατο οὐσίας εἶδος, τῆς τε ταὐτοῦ φύσεως [αὖ πέρι] καὶ τῆς τοῦ ἑτέρου), и подобным же образом поставил его между тем, что неделимо, и тем, что претерпевает разделение в телах. Затем, взяв эти три [начала], он слил их все в единую идею (εἰς μίαν πάντα ἰδέαν) (Ti. 34c–35d, пер. С.С. Аверинцева)».
Как видим, душа – это смешение тождественного, иного и объединяющей их сущности, и это, на наш взгляд, можно рассматривать как «космологическую проекцию» трех родов из великой пятерицы, где οὐσία объединяет противоположности. Но кроме этого, душа обладает двумя видами движения. Первое – внешнее, слева направо, вдоль стороны условного прямоугольника, единообразное, постоянное и равномерное, названное поэтому природой тождественного; это тот вид движения, которым душа вращается вокруг себя самой (αὐτή τε ἀνακυκλουμένη πρὸς αὑτήν 37a5). Второе – внутреннее, справа налево, вдоль диагонали, неравномерное, связанное с природой иного (36c1–d7). Достаточно ясно, по нашему мнению, что равномерное постоянное вращение – образ «покоя», неравномерное – собственно «движения» из пятерицы великих родов. Выражение, которое встречается в этом месте «Тимея» – «природа иного» (τῆς θατέρου φύσεως) – то, чем завершает рассмотрение рода «иного» Чужеземец в нашем фрагменте «Софиста»: «Тогда среди эйдосов, которые мы выбрали, пятым существующим (οὖσαν) нам следует назвать природу иного (τὴν θατέρου φύσιν)» (Sph. 255d9–e1).
Ф. Корнфорд, комментируя устройство души в «Тимее», не согласен с Проклом и другими античными комментаторами, так или иначе сопоставлявшими пять великих родов «Софиста» с эйдосами, «составляющими» космическую душу.2 Корнфорд трактует эйдосы в «Софисте» как относящиеся прежде всего к описанию утвердительных и отрицательных высказываний и полагает, что с космологическими эйдосами «Тимея» их сополагать не следует (Cornford 19, 61–66).
Мы исходим из того, что в разных диалогах и в разных контекстах Платон воспроизводил разные уровни сущего, описанные им самим в разверну- том виде в «Государстве» (прежде всего в R. 509–511). Пять великих родов «Софиста» соотносятся с описанием космической души в «Тимее» таким образом, что в первом показан «ум» в качестве динамического структурного взаимодействия необходимых для этого эйдосов, а в «Тимее», говоря языком самого диалога, мы видим «правдоподобный миф» (Ti. 29d2), как бы описывающий проекцию «умной парадигмы» на космическую душу. Поэтому мы полагаем, что космическая душа в «Тимее» является «объемным» космологическим образом ноэтической пятерицы из «Софиста», представляя собой специфическое соединение пяти главных родов: движение, покой, сущее, тождественное, иное. Именно связью ноэсиса с космогонической онтологией можно, как нам думается, объяснить не нужное на первый взгляд вкрапление двух онтологических эйдосов τὰ αὐτὰ καθ' αὑτά и τὰ δὲ πρὸς ἄλλα в логическое рассуждение о необходимости рода «иного».
Список литературы "Иное": ноэсис и онтология ("Софист" 255C8-D7)
- https://nsu.ru/classics/schole/14/14-2-protopopova.pdf
- Делез, Ж. (1998) "Платон и симулякр", Интенциональность и текстуальность. Философская мысль Франции XX века. Пер. с франц. Е.А. Наймана. Томск.
- Протопопова, И. А., пер. (2019) Платон. "Софист". Исследование, перевод с древ-негреческого, комментарии и примечания. Санкт-Петербург.
- Протопопова, И. (2014) "Умопостигаемый атом" Платона", Вопросы философии 8, 138-144.
- Ambuel, D. (2007) Image and Paradigm in Plato's Sophist. Las Vegas.
- Campbell, L. (1867) The Sophistes and Politicus of Plato. With a Revised Text and English Notes, by Lewis Campbell. Oxford.
- Cornford, F. (1935) Plato's Theory of Knowledge: The Theaetetus and the Sophist of Plato. Translated with a running Commentary. London.
- Cornford, F. (1937) Plato's Cosmology. The Timaeus of Plato. London.
- Duerlinger, J. (2009) Plato's Sophist. A Translation with a Detailed Account of its Theses and Arguments by J. Duerlinger. New York.
- Heidegger, M. (2003) Plato's Sophist. Indiana University Press. Rosen, S. (1983) Plato's Sophist: The Drama of Original and Image. New Haven.
- In Russian:
- Delez, Zh. (1998) «Platon i simulyakr», Intencional'nost' i tekstual'nost'. Filosofskaya mysl' Francii XXveka. Per. s franc. E.A. Najmana. Tomsk.
- Protopopova, I. (2019) Platon. «Sofist». Issledovanie, perevod s drevnegre-cheskogo, kom-mentarii i primechaniya. Sankt-Peterburg.
- Protopopova, I. (2014) «"Umopostigaemyj atom" Platona», Voprosy filosofii 8 (2014), 138-144.