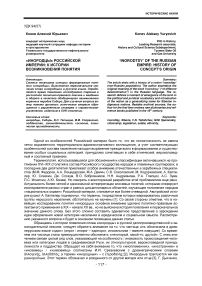«Инородцы» Российской империи: к истории возникновения понятия
Автор: Конев Алексей Юрьевич
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 13, 2014 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена истории формирования понятия «инородцы». Выясняется первоначальное значение слова «инородные» в русском языке. Определяется время появления исследуемого термина в российской политико-правовой лексике и введения в оборот в качестве обобщающего наименования коренных народов Сибири. Для изучения вопроса автор помимо архивных источников впервые обращается к раритетным словарям и справочникам-указателям, изданным в XVIII столетии.
Инородцы, сибирь, в.н. татищев, м.м. сперанский, подданство, законодательство, сословие, этническая принадлежность
Короткий адрес: https://sciup.org/14935986
IDR: 14935986 | УДК: 94(57)
Текст научной статьи «Инородцы» Российской империи: к истории возникновения понятия
Одной из особенностей Российской империи было то, что ее полиэтничность не имела четко выраженного территориально-административного воплощения, а учет соответствующих особенностей состава населения находил выражение прежде всего в формировании и существовании особых социальных категорий, причудливо сочетавших в себе этнический, вероисповедный и сословный признаки.
Терминология, использовавшаяся для обозначения и классификации включавшихся на протяжении XVI–XIX столетий в состав Российского государства народов и племенных группировок, в последние два десятилетия привлекает особое внимание отечественных и зарубежных специалистов (М.М. Федоров, А.А. Люцидарская, М.А. Демин, С.В. Соколовский, М. Ходорковский, А. Каппе-лер, Ю. Слезкин, Дж. Слокум, В.О. Бобровников, Н.Н. Андреянова, Р.А. Тлепцок, А.С. Зуев, П.С. Игнаткин, А.Ю. Конев). Но говорить о всесторонней разработке этой проблематики еще рано. Актуальность более четкой и однозначной интерпретации ключевых понятий, которыми оперируют исследователи разных стран и разных дисциплинарных областей, изучающие положение народов «национальных окраин» Российской империи, становится все более очевидной. Австрийский историк-русист А. Каппелер подчеркнул, что термины, посредством которых маркировались различные группы нерусского населения, обстоятельно не изучены [1]. Со своей стороны отметим, что в новейших исследованиях понятия «инородцы» основное внимание уделено политико-правовым аспектам его применения в XIX – начале XX вв., но не выяснена история появления и первоначальное значение данного слова. Без этого сложно составить адекватное представление о зарождении идеи оформления новой категории населения в юридическом и социальном смысле. Рассмотрению указанного вопроса и будет в основном посвящена данная статья.
Обращаясь к истории появления слова «инородцы» в русской делопроизводственной и законодательной лексике, следует обратить внимание на то, что частица инъ обозначала в древнерусском языке «один» (инрог / инорог – единорог, иносельники – вместе живущие). Со временем эта частица стала преимущественно обозначать «некоторый, какой-то, другой». С этим значением связан целый ряд слов, указывающий на особенность / инаковость происхождения человека или категории людей в средневековой Руси, их этнокультурной, вероисповедной принадлежности и подданства. Обращает на себя внимание то, что «иноплеменник», «иностранник» и «иноземец» / «чужеземец» соотнесены И.И. Срезневским с древнегреческими словами ἀλλογενήϛ, ἀλλοδᾰπός, а термин «инородныи» – с ἕτεροϑαλήϛ [2]. Инородные трактуются им как разнородные. Этот термин обозначал и рожденного от другой матери или отца [3]. Г. Дьяченко, соотнося слово «инородный» с встречающимся в Ветхом Завете термином «иноплеменник» (Левит XX, 10), уточняет, что речь идет о том, кто «не из племени Аарона, колена Левиина, а из других колен» [4]. Указание на греческие прототипы дает возможность уяснить нюансы содержания интересующих нас понятий. Так, ἕτέροϛ означало преимущественно различие между двумя («один из двух»), а ἀλλοϛ – различие между многими («другой среди многих»). Правда, исследователи отмечают, что в древнегреческом языке между ними очень трудно провести четкую смысловую границу [5; 6]. И тем не менее примечателен тот факт, что калькой русского слова «инородец» в значении «чужестранец / иноплеменник» в современном французском и английском языках выступают производные от ἀλλογενήϛ – allogene и alien.
Итак, есть основания полагать, что термин «инородный» использовался в средневековой русской книжности для обозначения отсутствия либо нарушения кровного родства в противоположность сродству / единородству. Он не нес смысловой нагрузки, связанной с отличиями по принадлежности к какому-либо этносу или государству. Эти функции выполняли термины «иноземный», «иноплеменный» и «иностранный». Скорее всего, поэтому он не встречается и в приказной документации. Нет его и в важнейшем памятнике русского права – Соборном уложении 1649 г. Единственным установленным на сегодняшний день фактом использования в XVII в. термина «инородцы» в значении «иностранцы» является сообщение моравских князей русским посланникам в Англии Г. Микулину и И. Зиновьеву в 1601 г., приведенное в соответствующем статейном списке: «Слышачи во многих розных государствах про его [царя Бориса Годунова] государево царское величество и к инородцом его царское великое жалованье» [7]. Но остается сомнение относительно точности передачи этого термина публикаторами названного документа, так как нигде это слово более не встречается ни по тексту документа, ни в других аналогичных памятниках данного периода, в том числе в дипломатической переписке.
В процессе проведения исследования нами были изучены более двух сотен опубликованных и неопубликованных архивных документов XVII – начала XVIII вв., относящихся к различным аспектам правительственной политики в отношении туземных народов Урало-Поволжья и Сибири. Термин «инородцы» ни в одном из них не присутствует. Основным обобщающим наименованием сибирских ясачных народов тогда выступал термин «иноземцы», на что, впрочем, указывают и другие авторы [8; 9].
В силу вышеприведенных доводов мнение исследователей, которые считают, что понятие «инородцы», наряду с терминами «иноверцы» и «иноземцы», вошло в употребление уже на раннем этапе освоения Сибири и азиатского Севера и закрепилось за нехристианскими народами новозавоеванных территорий [10; 11], следует признать неосновательным.
В.О. Бобровников предполагает, что обобщающее понятие «инородцы» было взято М.М. Сперанским и Г.С. Батеньковым из единичных указов петровского и екатерининского времени [12]. В самом деле, в составе Полного собрания законов Российской империи (далее – ПСЗ) имеется несколько случаев использования термина «инородцы» в заголовках отдельных законодательных и распорядительных актов конца XVII – XVIII вв. [13]. Но этот факт не должен вызывать недоумения, так как заголовки эти были сформулированы или отредактированы в 1820-х гг. кодификаторами во главе с самим Сперанским. Все указанные случаи применения интересующего нас понятия не стыкуются с текстом самих документов, где употребляется другая терминология для обозначения народов Сибири: «ясачные иноземцы», «ясачные народы», «ясачные иноверцы». По-видимому обратив на это внимание, Дж. Слокум признает тот факт, что в правовых актах XVIII в., вошедших в ПСЗ, термин «инородцы» не использовался «для обозначения определенной правовой категории подданных империи» [14].
Как было сказано выше, происхождение русского слова «инородный» было связано с идеей рода в значении кровнородственной, поколенной связи, а не в этническом смысле. Лишь со временем оно стало переосмысливаться в таком ключе. Результаты этого процесса проявились в XVIII в., когда, по наблюдению Ю. Слезкина, образованные русские стали интересоваться вопросами классификации и упорядочения этнических групп империи [15].
Пожалуй, первый пример такого переосмысления обнаруживается в трудах В.Н. Татищева. В своем знаменитом «Лексиконе» он поясняет: «Инородный различает род, хотя может быть одного закона и подданства, например крещеной татарин с русским, хотя одноверцы и одноземцы, но по природе весьма разны, противно же тому могут разных вер и подданств люди единородны имяноваться…». При этом термин «иноземец» трактуется как понятие, которое «у нас иногда за иноверца, и инороднаго, и за иноязычника употребляют», тогда как по мнению Татищева «подлинно иноземец разумеется иностранный, который не есть подданный того государства, где он находится» [16]. Таким образом, «Лексикон» фиксирует применение в первой половине XVIII в. обобщающего понятия «иноземец» для обозначения не только выходцев из других земель, но и нерусских жителей России, принадлежащих к неправославным исповеданиям, что находит яркое подтверждение на сибирских материалах [17]. При этом предлагается провести более четкую смысловую границу между терминами «иноземец» и «инородный», закрепив за первым только обозначение иностранных поданных, а за вторым – представителей разных народов и религий, являющихся поданными Российской империи. Важно отметить, что «Лексикон», составленный Татищевым в 1745 г., увидел свет только в 1793 г.
Во второй половине XVIII в., вытеснив окончательно понятие «иноземцы» из языка официальных документов, основным обобщающим наименованием народов Сибири станет термин «ясашные». Сохраняет свою актуальность и термин «иноверцы». Именно он будет представлен в неоднократно издававшемся в 1780–90-х гг. «Словаре Юридическом» Ф.И. Ланганса. Это был предметный указатель к правительственным распоряжениям и указам, и предназначался он для практического использования. Следует иметь в виду, что Ланганс долгое время служил чиновником в Иркутске, занимая в начале XIX в. должность председателя второго департамента палаты суда и расправы. Безусловно, он старался отобрать наиболее значимые для тогдашнего, еще не систематизированного российского законодательства термины. Примечательно, что понятие «инородцы» в «Словаре» Ланганса отсутствует [18].
Впервые слово «инородец» появится в пятой части Словаря Академии Российской, опубликованной в 1794 г. Здесь же за ним окончательно закрепляется смысловое значение, связанное с племенной / этнической принадлежностью. Интересно, что, определяя семантику понятия «инородный» как «иноплеменный и чужеземный», составители словаря апеллируют не к «Лексикону» Татищева, а к Елизаветинской Библии 1751 г.: «И вси мужи дому его, и домочадцы [его] и куплении от инородных языков» (Бытия XVII, 27) [19]. Для сравнения: в Острожской (1581) и Московской Библиях (1663) этот стих воспроизводится так: «И вси мужи дому его, и вси домочадцы и купленыи, от всех народов».
Таким образом, к концу XVIII столетия в русском языке формируются дискурсивные практики, способствующие новому осмыслению этноязыкового и конфессионального разнообразия империи, конструированию образа ее подданных. Теперь их можно было разделить на «природных», связанных с господствующим славянским ядром исконной Руси-России, и «неприродных» – ставших частью российского социума в результате присоединения земель, не являвшихся ее исторической территорией. Характерно, что в первоначальном проекте будущего «Устава об управлении инородцев», составленном на рубеже 1820–1821 гг., Сперанский так определяет соответствующую категорию населения: «Все обитающие в Сибири инородные племена, то есть коренные сей страны жители не Российского происхождения» [20].
Насколько можно судить по документам, опубликованным В. Вагиным [21], и тем источникам, что обнаружены в архивах [22; 23], Сперанский в период своего сибирского генерал-губернаторства в официальной переписке или при разработке каких-либо других проектов не использовал слово «инородцы» и производной от него терминологии до момента составления знаменитого законодательного акта о правовом положении народов Сибири. Точка зрения о том, что именно в «Уставе об управлении инородцев» 1822 г. впервые было дано правовое определение новой социальной категории, несмотря на попытки пересмотреть ее [24], остается незыблемой. Концептуализация нового обобщающего и классифицирующего термина была осуществлена в процессе подготовки Великой сибирской реформы применительно к местным «ясачным народам». География его распространения существенно расширилась после выхода Свода законов Российской империи.
Ссылки:
-
1. Каппелер А. «Россия – многонациональная империя»: некоторые размышления восемь лет спустя после публикации книги // Мифы и заблуждения в изучении империи и национализма. М., 2010. С. 278.
-
2. Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Т. 1. СПб., 1893. Ст. 1104–1106.
-
3. Там же. Ст. 1105.
-
4. Дьяченко Г. Полный церковно-славянский словарь. Т. 1. М., 1998. С. 223.
-
5. Древнегреческо-русский словарь / сост. И.Х. Дворецкий. Т. I. М., 1958. С. 84, 678.
-
6. Theological dictionary of the New Testament / ed. by G. Kittel, G.W. Bromiley & G. Friedrich. Grand Rapids. Vol. 1. 1964. P. 264.
-
7. Памятники дипломатических сношений Московского государства с Англией. Т. II. (с 1581 по 1604 годы) // Сборник
Императорского Русского исторического общества. Т. 38. СПб., 1883. С. 344.
-
8. Люцидарская А.А. От «иноземцев» к «инородцам» (один из аспектов колонизации Сибири) // Аборигены Сибири: проблемы изучения исчезающих языков и культур. Тезисы Междунар. науч. конф. Новосибирск, 1995. Т. II. С. 165–169.
-
9. Игнаткин П.С. Собирательно-обобщающие названия аборигенов Сибири в русском коммуникативном пространстве XVI–XVII вв. // Исторический ежегодник. 2013 : сб. науч. тр. / гл. ред. А.Х. Элерт. Новосибирск, 2013. Вып. 7. С. 153–154.
-
10. Khodarkovsky M. «Ignoble Savages and Unfaithful Subjects» : Constructing Non-Christian Identities in Early Modern Russia // Russia's Orient: imperial borderlands and peoples, 1700–1917 / ed. by Daniel R. Brower and Edward Lazzarini. Bloomington, 1997. P. 15.
-
11. Соколовский С.В. Образы других в российской науке, политике и праве. М., 2001. С. 46, 52.
-
12. Бобровников В.О. Что вышло из проектов создания в России инородцев? (ответ Джону Слокуму из мусульманских окраин империи) // «Понятия о России» : К исторической семантике имперского периода. М., 2012. Т. II. С. 265.
-
13. ПСЗ-I. Т. III. № 1526 ; Т. IV. № 1800 ; Т. XVI. № 12041.
-
14. Слокум Дж.У. Кто и когда были «инородцами»? Эволюция категории «чужие» в Российской империи // Российская империя в зарубежной историографии. Работы последних лет : антология / сост. П. Верт, П.С. Кабытов, А.И. Миллер. М., 2005. С. 507.
-
15. Слезкин Ю. Естествоиспытатели и нации: русские ученые XVIII века и проблема этнического многообразия // Российская империя в зарубежной историографии. С. 120–154.
-
16. Татищев В.Н. Лексикон российской исторической, географической, политической и гражданской. СПб., 1793. Ч. 3. С. 90.
-
17. Конев А.Ю. Колониальный дискурс имперских классификаций: историки о термине «иноземцы» в отношении народов Сибири // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2014. № 6–1 (44). С. 84–85.
-
18. Ланганс Ф.И. Словарь юридический, или Свод российских узаконений, по азбучному порядку. С прибавлением, против напечатанного в Университете, трех годов, и именно: 788, 789, 790. Тобольск, 1791. С. 61–63.
-
19. Словарь Академии Российской. Ч. V. От Р до Т. СПб., 1794. С. 37.
-
20. РГИА (Рос. гос. ист. арх.). Ф. 1264. Оп. 1. Д. 264. Л. 99.
-
21. Вагин В. Исторические сведения о деятельности графа М.М. Сперанского в Сибири с 1819 по 1822 годы. Т. 1–2. СПб., 1872.
-
22. РГИА. Ф. 1251. Оп. 1. Ч. 1. Д. 24.
-
23. Государственный архив в г. Тобольске. Ф. 329. Оп. 12. Д. 22. Л. 1–19.
-
24. Федоров М.М. О первых проектах закона о правовом положении народностей Сибири // Сборник научных трудов Якутского государственного университета. Сер.: Гуманитарные науки. Якутск, 1994. С. 54–62.