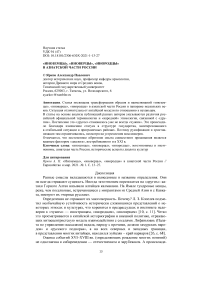«Иноземцы», «иноверцы», «инородцы» в азиатской части России
Автор: Ярков Александр Павлович
Журнал: Восточный вектор: история, общество, государство @eurasia-world
Статья в выпуске: 1, 2021 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена трансформации образов и наименований «иноземцы», «иноверцы», «инородцы» в азиатской части России в панораме нескольких веков. Ситуация отличительна от китайской модели по отношению к неханьцам. В статье на основе анализа публикаций разных авторов указываются различи я российской официальной терминологии и «народной» этимологии, связанно й с «другим». Постепенно это «другое» становилось уже не всегда «чужим». Это происходило благодаря изменению статуса в структуре государства, заинтересованного в стабильной ситуации в приграничных районах. Поэтому русификация и христианизация там ограничивались, несмотря на устремления миссионеров. Отмечается, что постепенное обретение опыта совместного проживания является важным фактором «диалога», востребованного и в XXI в.
«иноземцы», «иноверцы», «инородцы», эктоэтнонимы и эноэтнонимы, азиатская часть России, исторические аспекты диалога культур
Короткий адрес: https://sciup.org/148318107
IDR: 148318107 | УДК: 94 (47) | DOI: 10.18101/2306-630X-2021-1-13-27
Текст научной статьи «Иноземцы», «иноверцы», «инородцы» в азиатской части России
Ярков А. П. «Иноземцы», «иноверцы», «инородцы» в азиатской части России // Евразийство и мир. 2021. № 1. С. 13–27.
Диспозиция
Разные смыслы вкладываются в вынесенные в название определения. Они не всегда отражают сущность. Иногда эктоэтноним переносится на «других»: казахи Горного Алтая называли алтайцев калмаками. На Ямале тундровые ненцы, реже, чем поселковые, встречающиеся с мигрантами из Средней Азии и с Кавказа, именуют их «черные русские».
Оценка событий ХVI–ХVIII вв. (определяющих рождение многих понятий) не однозначна в сибиреведении — отечественном и зарубежном. А происхожде- ние понятий вообще долгое время было запутано. Внес сумятицу и невольный путешественник по Сибири в 1405–1408 гг. Иоганн Шильтбергер, «населив» край странными по происхождению людьми, поклоняющимися разным богам [21].
Среди сибирских тюрков именовали «иноверцами» многих насельников окружающего мира, а «инородный, чужой», предположительно, связано у них с уйгурским заимствованием из китайского языка. Это привело к появлению лексемы надзы>надцы, использованной при наименовании юрт Над(з)цинских и Надцынской волости в Тобольской губернии [2, с. 133].
Обозначения: «иноземцы», «инородцы», «иноверцы» сложились исторически, имея разное толкование:
-
- в рукописях, например, в «Есиповской летописи» или в часто употребляемом, но весьма неточном переводе названия рукописи на сибирскотатарском языке/диалекте арабскими графемами «Шейх Баховуддин шайхларнинг Гарбий Сибирдаги диний жасоратлари» [9];
-
- в тюркских и угорских легендах: «иноверцами» подданные хана Кучума считали дружинников атамана Ермака;
-
- в «Уставе об управлении инородцев», который определял, что исповедующие «языческую или магометанскую веру… именуются оседлыми иноверцами»).
Дружинники Ермака и ближайшие его последователи в освоении Сибири лишь представляются все русскими людьми. Но среди них были Окул (на тюркском — «посаженный отец»), Корчига (тюркское имя от ястреба-тетеревятника), Мещеряк, Черкас Александров, Савва Францужанин и другие. Поэтому сомнительно утверждение летописей о «низвержении ермаковой дружиной идолов и мечетей», исходя из состава «русских освоителей» края, расстановки там сил в ХVI в., культурной памяти и родственных связей. И все же об отделении «иноверца» Ермака от «своих» говорит обряд захоронения атамана татарами за пределами Баишевского кладбища, предназначенного для мусульман. Однако заметим: не было жесткого конструирования образа «другого» как врага по отношению к соседям-«язычникам». Причина не только в вассальной зависимости угорских княжеств от Искера: у сибирских мусульман сохранялся не только культ предков, но и схожие с уграми элементы прежних верований, включая шаманизм и анимизм, образуя синтетический образ.
Причины
Противопоставление очерчивало, хотя и зыбко, культурные границы «друго-го/чужого». Со временем те границы стирались, «чужое» становилось своим: местные реки Карасулька, Мергенька, Пышма имеют угорскую или тюркскую первооснову, а у гидронимов Ока, Порос, Кожух есть «родственники» в Европе. А вот у правого притока реки Таз (вдали от русских поселений) есть любопытное название — Луцеяха («Русская река»). Из Средней Азии перекочевало название селения Йэркэу~Яркенд, оставив «на память» автору фамилию.
Бухарская по происхождению техника ковроделия стала традиционной для укоренившихся русских мастериц, чье изделие даже запечатлено в картине красноярца по рождению и казака по происхождению Василия Сурикова «Взятие снежного городка».
Тюркская по наименованию Тюмень, часто именуемая «первый русский город в Сибири», таковым не могла быть ни по истокам, ни по составу населения.
Появилась Тюмень в 1586 г. согласно указу царя Федора на месте Чимги-Туры, что под именем Singui (Цынги) отображена на Каталанской карте мира (1375 г.). Состав жителей обнесенного острожной стеной поселения с именем Тюмень ограничили православными, а прежних чимгитуринцев выселили за реку Туру. Но кого только не было среди первых «русских» тюменцев: «черкасы» (украинцы), принявшие православие служилые татары (йомышлы), «немцы» и «литва» (сборные субстраты). При основании Тобольска в 1587 г. в нем проживало из лиц мужского пола: 10 служилых и 28 захребетных, 2 казанских татарина; в Мариинском районе Кузбасса бытуют предания о прежнем правителе Кучуме и его местных потомках, в том числе среди обрусевших аборигенов.
С присоединением Сибири Русское государство стало Российским. Это точнее отражало состав его населения, как и перемены в человеческих судьбах. Так, потомок золотоордынского Албыча-мурзы пелымский, боярский сын Петр Ал-бычев стал основателем Енисейского, Макинского, Кетского и Намацкого острогов. Казак Васка Новокрещон в 1624 г. в пограничной Кийской волости отстаивал российские интересы.
Сибирский фронтир защищал население от нападений, но и не разрушал прежние связи. Результатом стал чересполосный и «очаговый» конгломерат различных расовых, культурных и цивилизационных зон. В итоге соплеменники могли обладать разной степенью комплементарности по отношению к новопоселенцам.
Двигавшиеся вслед за соболем промышленники дошли до устья Лены, обосновались там вместе с женами-«инородками». Без священников поддерживали православную веру и русские традиции, составляя, например, «свадебный поезд» из собак. Со временем образовался уникальный комплекс, смешанный по антропологическим, хозяйственно-экономическим и культурным истокам, что позволило некоторое время относить этих «русских» (ставших русскими) к КМНС Якутии.
Сопротивляясь, в 1632–1635 гг. тюменские татары, «кучумовы внучата» (к которым присоединились калмыки) нападали на русских крестьян и оставшихся верными Москве тюрков. Эти нападения отразил отряд служилого татарина И. Бакшеева [28, с. 24].
Православной церковью не допускались браки с «латынянами» (католиками), людьми «лютеровой веры» и с «бусурманами». Для них единственной возможностью сделать карьеру в Сибири — принять крещение, хотя известно, что иные священники отказывали: «у меня де литве и татарам крещения нет» [17, с. 253].
В «иноверцах» власти видели ясакчи, а уж затем пытались понять: почему, например, ханты Подгородной волости именовались татарами (они приняли ислам и затем тюркизировались), оленные чукчи отделялись от береговых и т. д. Впрочем, дача ясака еще не гарантировала властям верноподданные чувства. Некоторые одновременно платили дань Российскому государству, еще авторитетным для них Кучумовичам, Джунгарскому ханству, китайским правителям. Случалось и тройное подданство — через тот же ясак. Так что «иноземец» не имел в такой ситуации одномерной оценки.
Сибирский фронтир защищал местных жителей от нападений, но и не разрушал привычные связи. Результатом стал чересполосный и «очаговый» конгломерат различных расовых, культурных и цивилизационных зон. Согласование традиций занимало десятилетия. Причина — в синкретичности «своих» и «чужих» вероисповедных практик, несущих отпечаток мест первоначального исхода.
Двигавшиеся вслед за соболем русские промышленники дошли до устья Лены, обосновались там с «инородками». Без священников поддерживали православную веру и русские традиции. Со временем образовался уникальный комплекс, смешанный по антропологическим, хозяйственно-экономическим и культурным истокам, что позволило некоторое время относить этих «русских» (ставших русскими) к коренным малочисленным народам Якутии.
До 1660-х гг. в документах часто присутствовали «служилые и юртовские татары» и «русские люди». К последним, в силу немногочисленности, причислили и нерусских по происхождению. Впрочем, и среди них рождалась «межа». Это нашло отражение во взглядах «временных тоболяков», там повстречавшихся: старообрядческого лидера Аввакума Петрова, молдавского грека и дипломата Николая Милеску-Спафария, хорвата и католика Юрия Крижанича. Между ними и местной элитой (воеводами, архиепископами) шли дискуссии, каждый ощущал «другого» как противника, хотя принадлежали все к христианам.
Вынужденные задерживаться в Тобольске иностранцы и жители европейской части России соприкасались с «инородцами». На Гостином дворе были широко представлены достижения европейской и азиатской цивилизаций. За пределами Тобольска вместе знакомились с культурой населения Сибири, Дальнего Востока и зарубежья служилые — татары, стрельцы и казаки, которые частью выступали толмачами и сборщиками информации, осуществляли посольские функции.
Недостаток грамотных русских и «русских» (неправославных, в том числе иностранцев) даже для занятия должностей, связанных со сбором налогов, обороной и разведкой, привели к появлению во власти представителей этнической элиты. Ей уже и не нужно было отказываться от религии предков. Справедливости ради заметим, что культура сибирских тюрок и аборигенного населения двигалась «по своей орбите», выдвигая таких ярких личностей, как Ишан Сейдашев ат-Табули, Бика-хафиз, Хаджам Шукур и другие.
1680-е гг. — кульминация христианско-исламской конфронтации в Европе, а в России Сибирь стала восприниматься «нечистым» местом — из-за «язычников» и «агарян». Увеличивали «пропасть» и служители культов: в 1685 г. митрополит Павел обратился в Москву с требованием выслать татар из Тобольска, но получил отказ. Интересы государства оказались важнее этнических предпочтений.
Осторожно власть относилась к бухарцам, поскольку те были торговыми посредниками, контактерами в посольских связях с Китаем, Джунгарией, Бухарой. Допускалось и появление «столицы Сибирской Бухарии» в юртах Саусканских и «Сибирской Мекки» в юртах Карагайских, ставших центрами духовной жизни мусульман.
В «Истории Сибирской» тоболяк Семен Ремезов на основе угорских и тюркских легенд, русских летописей и «скасок» создал «всея Сибири городов карты». Они «...сняты с тех имянно и подлинно, и подписано наличие описанием разных
А. П. Ярков. «Иноземцы», «иноверцы», «инородцы» в азиатской части России земель, и украин, и стран с прилежащими жительствы, снискателное изображение городов и слобод, острогов и погостов, и ясачных городков и волостей розных язык калмыков, мугалцов, татар и остяков, вогуличь, самоеди, якутов, тунгусов и братов, и киргиз, ясашных и не ясачных иноземцев...».
Не все, как Ремезов, могли различать сибиряков. Так, Витус Беринг, возвращаясь в 1730 г. из экспедиции, «мимоходом» причислил якутов (православных и шаманистов) к тем, кто «веру имели от старины махаметцкую». Более точен в этноконфессиональном описании Герхард-Фридрих Миллер, который в течении 10 лет обследовал регион и составил описания [22, с. 72].
Прошло еще 200 лет, прежде чем ученые провели классификацию, выявив общее и частное. Так, самодийцы, по мнению Галины Пелих, разделяли русских на «разных»: ранее поселившихся именовали доброжелательно «паджо», тогда как более поздних — «касак», «каса-гула» (очевидно, подразумевались казаки), враждебно относясь к ним как к сборщикам ясака.
Впрочем, селькупское население не выделяло в отдельную группу казачества служилых татар. Ими могли быть абинские и тюлюберские татары, выезжие калмыки, обустраивавшие, например, в 1717 г. Бикатунскую (новую) крепость. Она стала одной из тридцати укреплений пограничных линий, отграничивавших «свою» политическую зону. Там российская власть несла ответственность и за спокойствие новых подданных [12, с. 40–41] . Хотя конфликты случались, например, между казаками и казахами на Бийской линии. Оттуда пронесенное казахами до современности разделение на «орус» и «орус казак». С другой стороны, некоторые кочевники, живя в казачьих или в смешанных селениях, стремясь стать казаками, принимали православие, «русские» имена и фамилии.
Перейдя границу, рабы и пленные могли обрести свободу — через крещение. А вот «дважды плененный» (российскими войсками под Полтавой и джунгарскими — у Ямыш-озера) Иоганн Ренат не только вернулся в Тобольск при своей вере, но и привел двух обращенных в лютеранство «буруток». Затем он их вывез в Швецию, с чем Россия вынужденно смирилась — формально женщины являлись подданными Джунгарского ханства.
Принятие православия было способом выйти из кабалы. Таким путем пошли захребетные (захлебные) татары, находившиеся даже у родственников на положении холопов. В 1699 г. зафиксировано 119 тюменских служилых татар и 105 за-хребетных, и со временем это соотношение было порушено [5, с. 37].
Присутствие в течение 11 лет нескольких тысяч плененных воинов Карла ХII имело разные последствия для этноконфессиональных отношений. Так, лейтенант Леонард Каг указал, что поднятые по тревоге русские вместе с татарами спасли город от бедствия, но пострадали именно «каролины», несправедливо обвиненные в поджоге.
Выстроив добрососедские отношения, женились на русских некоторые шведы, немцы, прибалты. С этой целью они принимали крещение.
Оппозиция
Несмотря на сложности, укреплялись идеи Просвещения в сибирской столице, где возник «тобольский тип культуры». Он родился в результате соединения традиционной культуры (основанной на переплетении русской старожильческой, тюркско-татарской, угорской и самодийской культур) и европейского образова- ния; влияния столичных идей Просвещения и просвещенного провинциализма. Характерен, замечено, он и для других городов края1 . О начавшемся диалоге культур свидетельствует легенда татар о друзьях — шейхе и русском колдуне.
Митрополит Сильвестр, «чиня обиды» мусульманам, старообрядцам, «язычникам», был настолько воодушевлен указом 1742 г. о ликвидации новопостроен-ных мечетей, что стал требовать их паству «выслать в их иноверческие татарские жилища». Ответная реакция обнаружилась вскоре в «хулительных книжках и письмах против крещения», где говорилось: «новокрещеные, покинув свою магометанскую веру, сделались собаками и ушли в идолопоклонническую христианскую веру». В 1760 г. Синод направил в Тобольск митрополиту предписание «О воспрещении крестить иноверцев неволею», напомнив о внимательном отношении к жалобам.
Насильственное крещение мусульман и «язычников» не прекращалось. Те становились «русскими» в правовом отношении, но еще не русскими по обычаям и ментальности. Особое положение сложилось у кряшен, которых селили в инородных волостях (например, в Телеутской), исходя из родственности по языку с сибирскими тюрками.
Православная церковь смирилась с присутствием старообрядцев, лютеран и католиков. Особенно в Алтайском горном округе, который с 1747 г. являлся собственностью императорского двора. А вот лютеран там привечали: медиков, горных инженеров. Поэтому появилась необходимость в пасторах и устройстве отдельных участков кладбищ (иначе, подобно самоубийцам, их надлежало хоронить за оградой православных некрополей, что оскорбляло родственников и единоверцев). Отсюда факты разграбления и вандализма, что произошло, например, с могилой Георга-Вильгельма Стеллера в Тюмени в 1746 г.
Соционимы: «иноземцы», «иноязычные» (до второй половины XVIII в.) в обиходе отделяли аборигенное, коренное население, христиан, мусульман и других. Отсюда и употреблявшееся в правовых актах определение — «иноверцы магометанского закона». Впрочем, не всегда делалось различие. Это подвигло бухарцев г. Тары обратиться в Екатерининскую (Уложенную) комиссию с претензией, что их учитывают вместе с «идолопоклонниками» и называют «иноверцами Сибирской губернии». Запись в данном случае была исправлена, но в другой ситуации запутывалась: сибирские бухарцы требовали отделить их от «ташкенцев» и «кокандцев»; в Среднем Приобье башкирские/уфимские татары именовали себя усредненно — татар-башкорт; западные и южные манси вообще исчезли, ассимилированные татарами и русскими (ими и называясь).
Осознав пагубность для империи притеснения неправославных подданных, Екатерина II (ее трон как главы Сибирского царства находился в тобольском дворце наместника) постаралась дать законное обоснование религиозной терпимости, а в «Антидоте» сама выступила критиком книги Шарля д`Отроша о Сибири, защищая внутреннюю политику как «самую правильную».
На рубеже ХVIII и ХIХ в. местная среда взрастила неординарных личностей — носителей новой этики. Им, например, был просветитель и педагог Нияз-Баки
Атнометев. Он в 1789 г. в первом в Сибири альманахе «Иртыш, превращающийся в Ипокрену» написал: «Воспользовавшись открытием Здешнего Народного Училища, получа во оном некоторое познание Российского языка, и следуя своему движению [религии], перевел я с Персидского на российский язык...» 1 . Внедрение в сознание его единоверцев оценочно объективных подходов к разнообразию мира еще не стало распространенной тенденцией. Более того, «иноверцами» (в отрицательной коннотации) появившиеся в Сибири после войны с Персией исламисты (первоначально с Кавказа) именовали всех, не разделяющих их радикальных идей. «Кафирами» для них были не только атеисты, христиане, иудеи, агностики, но и единоверцы, исповедующие традиционный ислам.
Государственная линия
Схема межличностных и межгрупповых отношений выстраивалась, хотя в документах Тюменской воеводской канцелярии 1746 г. сказано о противопоставлении: «бухарцы и татары называют русских людей орус, а себя называют му-сельмане» [19, с. 111]. Действовали стереотипы, углубляя социальный и психологический антагонизм между русскими и «русскими центрами» (столицами и городами), аборигенами и коренными. Они типизировались с помощью понятий-образов: «азиат», «мусульманин», «татарин», «остяк», попадающих в обобщенную категорию, если не «зла», то потенциальной опасности — «иноро-дец/иноверец» [11, с. 55, 292–293] .
Межевой столб между Пермской и Тобольской губерниями именовался «Россия – Сибирь». Под ним ссыльные, каторжники, переселенцы и направленные на службу «прощались с Россией» [15, с. 5–7] . Даже в ХIХ в. местные русские воспринимали свою изолированность как объективную реальность, утверждая, что они — «сибиряне», а только к западу от Урала начинается Россия. В то столетие изменился сам «мир» региона: как из-за политического присоединения (включая завоевание, добровольное вхождение) новых территорий, так и в ходе переселения — для крестьянского освоения, перспектив ремесла и торговли, работе на шахтах и приисках. Если северные и восточные кочевники (оленеводы, рыбаки, охотники) продолжали прежний тип хозяйствования и лишь миссионеры были увлечены идеей христианизации (присваивая попутно православные имена). Власть же то по отношению к жителям приграничных районов была заинтересована в оседании и, лишь по обстоятельствам, в русификации. Причина — неспокойная граница.
В 1803 г. требовалось направлять в инородческие селения миссионеров, знающих местные языки, а Указ 1808 г. предписал: «Всем казенным, наипаче магометанского закона селениях, внутрь линии [пограничной] расположенным, дозволить принимать к себе киргизов по их желанию и обращать в поселяне на равных правах и обязанностях со сторожилами тех селений». А вот оказаченные кочевники, джатаки, туратинские казахи остались мусульманами, тогда как телеуты и алтайцы — «язычниками» [18, с. 76, 78] .
Численность населения (существенно расширившегося в этноконфессио-нальной палитре) только в Западной Сибири в 1805–1860 гг. увеличилась с 1 115 490 до 1 774 623 чел. Сельчан среди них 1 046 412, тогда как горожан — 2 69 078. Не все из них стремились к инновационной модели бытия. Более того, Чокан Валиханов был солидарен с желанием российских властей отделить его земляков-степняков как от ОМДС, так и от «более фанатичных ферганских мулл».
Сибиряки (коренные и пришлые) оставались консервативными, к тому же «размытыми» явным или бывшим маргинальным элементом. Это описал в «Записках из Мертвого дома» Ф. М. Достоевский, прошедший по сибирским местам «отдаленным» и «не столь отдаленным», где понял: религия способна нравственно поддержать в жестких каторжных условиях.
Совершали преступления, конечно, и местные: в 1849 г., например, в Томской губернии были осуждены по одному человеку «из духовного звания» и «инородцев». Иные миряне и священнослужители совершали преступления против «своей» (как бывший архимандрит иркутского монастыря Никита Бичурин) и «чужой» веры — Оренбургское мусульманское духовное собрание (ОМДС) осудило муллу юрт Кыштырлинских Садыкова [25, с. 267] .
Отбывших наказание стремились селить в далекие места, дистанцируя от горожан и заселяя малообжитые земли. Кроме того, неукоснительно соблюдалось правило — их число не могло превышать трети коренных жителей, чтобы нравственно не разложить паству. Крестьянские общины и ремесленные цеха, приходы, кагалы и махалля выполняли функции хранителей этнических и конфессиональных традиций, регуляторов отношений с «другими», «стражей» нравственности, воспитателей оступившихся.
Ссыльные и их потомки в 1858 г. составляли 10% населения в Тобольской, и 15% в Томской губерниях. Приговоренных к каторге за особо дерзкие преступления направляли еще дальше — в Восточную Сибирь и на Дальний Восток. В результате дисбаланс полов (в Верхнеудинском округе в 1870 г. 119 мужчин на 23 женщины) активизировал межэтнические браки «иноверцев» из ссыльных с православными. Так, ссыльный поселенец из татар, осевший в Енисейской губернии, — С. М. Баширов указал: «в 1823 г. был я за преступление сослан в Сибирь на поселение, где обзавелся домом, желаю жениться на христианке, почему покорнейше прошу Духовное Правление привесть меня в Православную веру».
Движимые долгом и обязанностями, иные священнослужители выходили за рамки миссионерской деятельности, по-своему понимая задачи аккультурации. Они изучали, как архимандриты Макарий (Глухарев) — глава Алтайской православной духовной миссии, тюркский, и Иокинф (Бичурин), отбывавший временную ссылку в Тобольске, а затем — глава миссии в Пекине, — китайский и монгольский языки. Их труды по этнографии и востоковедению востребованы и в ХХI в.
Губернатор Михаил Сперанский вместе с сибиряком по рождению (и будущим декабристом) Гавриилом Батеньковым подготовили проекты нескольких уставов. В них говорилось о недопустимости (как это практиковалось в Америке) переселения «отсталых народов» в резервации. Отношение власти к духовным потребностям и социальному устройству изменилось, а «иноверцы» и «инородцы» с 1822 г. стали соционимами переходного типа. Они уже не обладали этнической или конфессиональной характеристикой. Термин «инородец» стал иметь
А. П. Ярков. «Иноземцы», «иноверцы», «инородцы» в азиатской части России сословно-правовое значение, разделяя их на оседлых, кочевых (скотоводов) и бродячих (таежных охотников), которые продолжали платить ясак и сохраняли порядки в укладе жизни и в управлении1.
Озабоченный присоединением территорий с большим количеством «иноверцев», генерал-губернатор Западной Сибири Густав Христиан Гасфорд все же решил придумать «…новую религию, приспособленную к условиям их жизни и соответствующую русским государственным интересам» [7, с. 185–186] .
Православная церковь осуждала совместное проживание христиан, мусульман, буддистов, иудеев, «язычников», но не могла противостоять властям в приглашении в Сибирь и на Дальний Восток сторонников католической и протестантской конфессий (военных, чиновников, инженеров, учителей), успешно адаптировавшихся и создавших здесь свои институты (приходы, школы, богадельни и общества). Они действительно могли быть «иноземцами», но это не могло уже иметь отрицательной коннотации – власть подобное пресекала. Для удовлетворения духовных потребностей католиков и протестантов разрешалось строительство храмов или молитвенных домов, приглашение священнослужителей. Лютеранин Готлиб Цинке стал епархиальным архитектором, построив 45 православных церквей и 2 мечети [3, с. 27].
Иерархам трудно стало контролировать ситуацию в городах, в приисковых и пришахтных поселках, на стройке Транссибирской магистрали и при обустройстве дальневосточных портов. Власти пытались поддержать епархии в отделении православных от «инородцев». По-своему солидарны с ними были кадимисты — противники «мусульманской Реформации», полагавшие, что включение в процесс обучения (весьма схоластического) в мектебе русского языка грозит ассимиляции. Противились ей и колонисты, упорно обучавшие в школах и молитвенных домах (часто это одно здание) детей на немецком, латышском, эстонском языках. Католические священники наряду с православными священниками уже вели «Закон Божий» в гимназиях и коммерческих училищах.
Конфессионально-государственные отношения в тот период приобрели четкую конфигурацию: власть не возражала против культурного изоляционизма, но уже и не форсировала христианизацию и русификацию. К тому же представители многих этносов и конфессий занимали высшие ступени социальной лестницы в Сибири и на Дальнем Востоке. Но иные явления настораживали: если дружба и взаимопомощь (тамырство) заходили «слишком далеко» (по мнению надзирающих за нравственностью лидеров разных конфессий), то следовали и административные выводы. Браки с «иноверцами» из христиан допускались, но детей в смешанных союзах надлежало воспитать в традициях православных.
От монолога к диалогу
По ходу внедрения новых ценностей (влияние вестернизации) изменялись иные представления. Но не все. Так, в 1882 г. отпраздновали «300-летие покорения Сибири». В тот период областники уже старались по-новому осмыслить события ХVI в. Признавая родственность по языку прибывших татар и башкир, якуты не смогли их принять как «своих» — из-за религиозных различий. Так, якутский мулла Халетдин-Калимулла Яникеев с обидой записал: «...нашей религии есть немало причисленных в улусах и наслегах, и за неимением муллы умерших якуты предают земле как каких-либо животных» [29].
Кросс-культурные процессы все же ускоряли этническое взаимодействие. Оно принимало устойчивый характер, а сформировавшиеся связи способствовали дальнейшему проникновению элементов «другой» культуры, перестающей быть «чужой». Обогащенное духовное пространство разрушало замкнутость, обособленность. «Пестрота» вообще способствовала процессам аккультурации, то есть заимствованию объектов, норм, ценностей.
Конечно, новокрещеные не могли стать русскими ускоренно, отринув прежние установки, обычаи и, конечно, пищевые пристрастия (бывший мусульманин не сразу заменит конину свининой, а северный кочевник не откажется от сырой рыбы и оленины). Более того, принятие девушками из числа коренного и аборигенного населения православия влекло за собой их выдачу замуж за такого же новокрещеного или русского. Но не всегда это меняло воспитанные в другой культурной среде гендерные установки: количество детей и в ХХ в. у них на порядок больше [24, с. 231] .
Для «переименования» себя имелись и меркантильные основания: отец муллы Нияза Мухаммада бен Мурада, происходя из бухарцев («иноземцев»), зарегистрировал себя «инородцем», облегчая налоговое бремя и получив шанс на приобретение земельного надела. С введением всеобщей воинской повинности новоприбывшие мусульмане, в отличие от коренных, подлежали призыву. И, чтобы спасти детей от военной службы, отец Нур Аллаха бен Абд Аллаха Ба-тиркаева, башкира по происхождению, объявил себя, наоборот, бухарцем, став «иноземцем».
Не встречали особой поддержки аборигенного населения обучение в русско-туземных школах, тогда как зажиточные татары и бухарцы специально отправляли детей для обучения «русской грамоте». А в Якутске, Олекминске и в других местностях сами «инородцы» организовали подобные школы. Так рождались кадры по-русски и «по-инородчески» образованных купцов, педагогов и просветителей. В «пограничье культур» появлялись новые феномены.
Соотношение коренных сибиряков (определение весьма относительное) и временных жителей иногда «зашкаливало»: в 1897 г. при общей численности населения в 40 тыс. около 2 тыс. сахалинцев числились каторжниками и оставленными на острове для поселения. Нравственная атмосфера была тяжелой. Иные находили спасение в перемене веры. У каторжан-православных была возможность посещать церкви. Для суннитов и шиитов построили отдельные мечети. А вот католики, по свидетельству начальника Сахалина, «обходятся без храма и священника» [16] .
О правах личности как таковой в любой религиозной системе говорить невозможно: подчинение Богу/богам/Абсолюту требует от верующего отрешения от «я» и подчинения. Но, заметим, тот или иной индивид, обладающей талантом и харизмой, мог подвинуть соплеменников и единоверцев к модернизации отношений внутри своей общности. Немало тому способствовали движения обновле- ния — джадидизм и «Гаскала», межэтнические браки и, признаем, смена религии (преимущественно, исходя из государственных правил, на православную).
Среди русских сибиряков, чьи предки когда-то приняли православие: Гавриил Батеньков, Иосиф Гиганов, Петр Ершов и другие. Характерна у Петра Ершова «Повесть о том, каким образом мой дедушка, бывший при царе Кучуме первым муфтием, вкусил романеи и как три купца ходили по городу». Образ одетого в казачий мундир с эполетами «Таз-баши, питомца Руси и Татарии», не историчен, но несет отпечаток взаимодействия культур и знаний об их особенностях: в словах и речевых оборотах, в структуре представлений о социуме и месте индивида в нем.
Более сложные связи обнаруживаются при анализе сюжетов о рыбе-ките в ершовском «Коньке-Горбунке» и в молитве барабинских татар о покровителе — Юсупе Пайхамбар. Они говорят как о «ходульности» некоторых образов, так и о «культурном поле», где те образы отражали представления людей, принадлежащих к разным цивилизационным системам [27, с. 10–13] . «Переплавленные» в общем этническом «котле» Сибири, всплывали на поверхность сюжеты, пересказанные внукам теми из старшего поколения, кто помнил фольклор своего «прежнего этноса».
Итак, «русский сибиряк» с ХIХ в. уже не всегда по происхождению русский, но в потомках обретает русскую идентичность, даже с учетом того, что в каждом 16-м коренном русском сибиряке и дальневосточнике течет кровь каторжника. И это не удивительно: по подсчетам Н. М. Ядринцева, в 1870-х гг. на 4 млн местных уроженцев приходилось около 500 тыс. бывших осужденных разного этно-конфессионального происхождения. Ядрицев же слишком огульно характеризовал: «Русский священник или слишком жалок, или продажен. Его духовное влияние слабее, чем влияние мулл и раввинов» [23] .
«Пограничные» этнические группы «интересовали» всех. Как заметила С. Ю. Белоруссова, «с 1870-х до 1910-х гг. этничность нагайбаков подогревалась соперничеством за их умы и души между православными и мусульманскими миссионерами. Те и другие убеждали нагайбаков в их особости: православные просветители настаивали на их отличии от татар-мусульман (родственных по языку), а мусульманские — на их отличии от русских казаков» [4, с. 54] .
На основе принятого в 1822 г. «Устава управления инородцев Сибири» в зонах компактного проживания появились отдельные (прежде всего, Бухарские) волости, иногда представляя лишь административные, а не территориальные единицы, таким способом не только разделяя «инородцев», но и отделяя «иноверцев» от крещеных их соплеменников [6, с. 63] . Впрочем, решение иногда отлаживалось. Например, Абдулдо Калдекеула Сарыкалдыков — лидер казахов Горного Алтая — в конце ХIХ в. настаивал на создании отдельной инородческой области. Так он мечтал сохранить свое влияние, политически балансирующее между Россией и Китаем. В результате томские власти в 1913 г. создали Казахскую волость, но изолировав лидера [8, с. 133] .
Первая всероссийская перепись населения дала любопытные результаты, выявив и этносы с синкретичными религиями. Так, в Тобольской губернии оказались в 1897 г. высланные с родных мест абхазы, аджарцы, караимы и другие. Также стало известно, что 53 «инородца» в Забайкалье рассчитывали на послаб- ление и помощь при заселении. Напротив, традиционалисты в Западной Сибири (например, носители идеи «зар заман» — «эпохи скорби») отстаивали неподвижность сельской общины, грезили воспоминаниями «об утраченном лучшем». И это в ряде случаев имело поддержку элит и было распространено в массах. Как констатировало совещание 1901 г., в Тобольской губернии: татары «держатся особняком» от русских соседей, большая их часть по-русски объясняется с трудом, русской грамоты «никто из них не знает», «хотя на родном языке грамотность среди них распространена гораздо более, чем среди русских, так как в каждой почти деревне есть мечеть и мулла, который является в то же время и учителем». Схожа была ситуация в протестантских селениях немцев, латышей и латгальцев, где исполнялась главная установка на самостоятельное постижение истины через общение с Богом и Библией.
Активной (в рамках своей конфессиональной программы) миссионерской деятельностью отличался крещеный татарин, выпускник Казанской духовной семинарии Ефрем Елисеев — священник из Иоанно-Введенского монастыря. Он гордился, что в 1901 г. ему удалось обратить в православие 9 «инородцев», чье крещение проведено на татарском языке и с «возможной торжественностью». Напротив, как только ослабло давление государства и РПЦ, крещеные в Алтайской православной духовной миссии туратинские казахи стали утрачивать «русскость». В их бытовой культуре в результате сложился симбиоз шаманских, православных и мусульманских элементов [14].
Участие сибиряков в российских революциях связано с общей политизацией социальных групп и объединений. Начатый с екатерининских реформ процесс привел к провозглашению указа «Об укреплении начал веротерпимости», вызвав возврат к религии предков крещеных татар, бухарцев, евреев. «Инородцы» стали участвовать в деятельности Союза русского народа, обществ мусульман-прогрессистов, партий «БУНД», «Иттифак аль-муслимин» и других. Стоит отметить мнение А. В. Алекторова, что «лишь верхние слои восприимчивы к конституционно-демократической идее для достижения вероисповедных и национальных целей» [1, с. 133].
Вновь возвратились в иудаизм бывшие кантонисты, нередко становясь во главе приходов, вспомнив полученное в детстве в хедерах и семьях. Укрепили самосознание через организацию отдельных обществ и политических движений украинцы, казахи, евреи, поляки и другие. Формируются и этнические гетто-поселки, подобные японскому Пооронтомари на Сахалине. Напротив, утратили свое бухарское самосознание эмигрировавшие в Османскую империю в 1906 г. жители ряда селений Тарского уезда.
Сибиряк Абдурашид Ибрагимов в 1907 г. предвидел необходимость реформ. Он утверждал: «...российское правительство в данное время и не согласится на автономное устройство входящих в его [государства] состав народов, через десять-двадцать лет оно все равно и, безусловно, будет вынуждено провести это». Обстоятельства определяли необходимость консолидации всех россиян (независимо от этноконфессионального происхождения), проживавших в Урянхайском крае, оказавшегося в 1914 г. под протектором Российской империи, или в зоне
КВЖД. Любопытно, для российских переселенцев татар и башкир в Харбине была построена мечеть с наименованием «Арабская»1 .
Наряду с укреплением начал веротерпимости в государстве шел и процесс нагнетания напряженности. Тому свидетельство — появление этнических преступных групп (например, хунхузов), распространение экстремистской литературы и рождение в Иркутске в 1912 г. нелегального комитета, ориентированного на идеи пантюркизма.
Из-за усиления миссионерского движения решились на эмиграцию в Монголию и Китай в 1915 г. номады Алтая, что усложнило для Российской империи внешнеполитическую ситуацию.
Последний раз в документах Российской империи «инородцы» упоминаются в связи с восстанием в 1916 г. в Средней Азии и Казахстане. Оно охватило алтайскую часть Западной Сибири [20, с. 19] . После 1917 г. юридически понятия «инородцы», «иноверцы» исчезли, но из Тарского уезда писали в июне 1919 г. в министерство вероисповеданий правительства А. В. Колчака: «Мы, сибирские инородцы, всегда жили отдельной от татар российских своей верой… и никакой нам автономии не нужно» [13, с. 299] .
К выводам
Разность трактовок «инородец», «иноверец», «иноземец» определялась многими факторами. Так, Сибирь воспринималась как отдельный от России край. Даже в ХIХ в. местные русские воспринимали изолированность как объективную реальность, утверждая, что они — «сибиряне», а только к западу от Урала начинается Россия.
Второе: русские в Сибири всегда были открытым этносом, в который через ассимиляцию, аккультурацию и христианство постоянно входила «новая кровь», хотя в государственной политике часто наличествовали обособление и русификация.
Третье: при всей этноконфессиональной «полифоничности» большая часть сибирского социума осталась в рамках традиционализма. Ему соответствовало мифологизированное сознание, где отказ от поспешности введения новаций — гарантия стабильности. Так и в оппозициях «иноверец», «иноземец», «инородец» многие сибиряки (сами в предках будучи мигрантами) выстраивали программу адаптации «других» к реалиям края.
Список литературы «Иноземцы», «иноверцы», «инородцы» в азиатской части России
- Алекторов А. Е. Инородцы в России: Современные вопросы: Финляндцы. Поляки. Латыши. Евреи. Немцы. Армяне. Татары / с предисловием А. С. Будиловича. Санкт-Петербург, 1906. 134 с. Текст: непосредственный.
- Алишина Х. Ч. Исторический ономастикон сибирских татар: монография. Тюмень: Печатник, 2016. 573 с. Текст: непосредственный.
- Балюнов И. В. Архитектор Богдан Цинке: основные факты биографии // Aus Sibi-rien – 2015: научно-информационный сборник. Тюмень, 2015. С. 24–27. Текст: непосредственный.
- Белоруссова С. Ю. Православная идентичность нагайбаков // Религиоведение. 2017. № 2. С. 49–56. Текст: непосредственный.
- Валеев Ф. Т. Сибирские татары: культура и быт. Казань, 1993. 208 с. Текст: непосредственный.
- Гарифуллин И. Б., Ярков А. П. Бухарцы Западной Сибири // Сибирское богатство. 2004. № 3. С. 62–64. Текст: непосредственный.
- Из истории казахов: научно-популярный сборник / составители С. Ешмухаметов, С. Жакеев. Алматы, 1999. С. 24–27. Текст: непосредственный.
- Калшабаева Б. К., Бейсегулова А. К., Рахимов Е. К. Из истории переселения казахов в Горный Алтай // Казахи Евразии: история и культура: сборник научных трудов. Омск; Павлодар, 2016. С. 127–134. Текст: непосредственный.
- Катанов Н. Ф. О религиозных войнах учеников шейха Багауддина против инородцев Западной Сибири. Казань, 1904. С. 133–146. Текст: непосредственный.
- Копелев Л. З. Чужие // Одиссей. Человек в истории. Образ «другого» в культуре. Москва, 1994. С. 10–17. Текст: непосредственный.
- Миропиев М. А. Положение инородцев в Сибири // Положение инородцев в России. Санкт-Петербург, 1901. 515 c. Текст: непосредственный.
- Муратова С. Р. На страже рубежей Сибири: строительство сибирских линейных укреплений. Тобольск, 2007. 176 c. Текст: непосредственный.
- Нам И. В. Национальные меньшинства Сибири и Дальнего Востока на историческом переломе (1917–1922 гг.). Томск, 2009. 500 c. Текст: непосредственный.
- Октябрьская И. В., Осипова Л. П., Нечипоренко О. В. Туратинские казахи. Судьбы национальных меньшинств России // Этнография Алтая и сопредельных территорий: материалы научно-практической конференции. Барнаул, 2001. Вып. 4. C. 29–34. Текст: непосредственный.
- Поротников Л. Ф. Сибирский тракт. Пограничный столб «Россия – Сибирь». Тюмень, 2016. 58 c. Текст: непосредственный.
- Потапова Н. В. Религиозная жизнь Сахалина (во второй половине ХIХ — начале ХХ в.): диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Южно-Сахалинск, 2004. 206 c. Текст: непосредственный.
- Пузанов В. Д. Русская православная церковь в Сибири ХVII в. и крещение инородцев // Религия в истории народов России и Центральной Азии: материалы II Международной научной конференции. Барнаул, 2014. C. 251–254. Текст: непосредственный.
- Томилов Н. А. Казахи Западной Сибири в конце ХVI — первой четверти ХIХ в. // Этногенез и этническая история тюркских народов Сибири и сопредельных территорий: сборник научных трудов. Омск, 1983. С. 68–83. Текст: непосредственный.
- Трофимова О. В. Ведомость Тюменской воеводской канцелярии 1746 года как источник по этнической истории татар // Тумашевские чтения: актуальные проблемы тюркологии: материалы всероссийской научно-практической конференции. Тюмень, 2007. С. 109–112. Текст: непосредственный.
- Шиловский М. В. Реквизиция «инородцев» Сибири на тыловые работы в 1916 году // Первая мировая война и национальный вопрос: сборник статей по материалам международной конференции. Пермь, 2014. С. 18–25. Текст: непосредственный.
- Шильтбергер И. Путешествие Ивана Шильтбергера по Европе, Азии и Африке с 1394 по 1427 г. // Записки Новороссийского университета. Одесса, 1867. Т. 1. 90 с. Текст: непосредственный.
- Элерт А. Х. Материалы по освоению Сибири в работах Г. Ф. Миллера экспедиционного периода // Исторический опыт изучения и освоения Сибири. Новосибирск, 1986. Вып. 1. С. 70–72. Текст: непосредственный.
- Ядринцев Н. М. Сибирь как колония в географическом, этнографическом и историческом отношении. Санкт-Петербург, 1891. 720 с. Текст: непосредственный.
- Ярков А. П. К вопросу о трансформации гендерных отношений в умме региона // Сулеймановские чтения: материалы и доклады ХV Всероссийской научно-практической конференции. Тюмень, 2012. С. 271–274. Текст: непосредственный.
- Ярков А. П. Маргиналы уммы азиатской части России в ХIХ — начале ХХI в. // Азиатская Россия: проблема социально-экономического, демографического и культурного развития (ХVII–ХХI вв.): материалы международной научной конференции. Новосибирск, 2017. С. 267–268. Текст: непосредственный.
- Ярков А. П. О месте Китая в исторических преданиях о распространении ислама в Западной Сибири // Китай: история и современность: материалы VII Международной научно-практической конференции. Екатеринбург, 2014. С. 67–70. Текст: непосредственный.
- Ярков А. П. П. П. Ершов и «тобольский тип культуры» // П. П. Ершов и культура Тюменского региона: сборник статей. Тюмень, 2005. С. 10–13. Текст: непосредственный.
- Ярков А. П. Тюркское население Тюмени и уезда в конце ХVI—ХVII вв. // ЛиК. 2011. № 2. С. 23–25. Текст: непосредственный.
- Баимов Р. На земле Саха (документальное повествование). URL: http://vatandash.ru/?article=271 (дата обращения 18.01.2021). Текст: электронный.