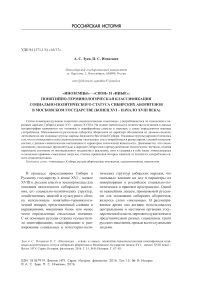"Иноземцы" - "свои" и "иные": понятийно-терминологическая классификация социально-политического статуса сибирских аборигенов в Московском государстве (конец XVI - начало XVIII века)
Автор: Зуев Андрей Сергеевич, Игнаткин Павел Сергеевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Российская история
Статья в выпуске: 8 т.15, 2016 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изучению семантики социополитонима «иноземцы», употреблявшегося по отношению к коренным народам Сибири в конце XVI - начале XVIII в. На основе значительного количества источников и данных историографии выявляются его основные и периферийные смыслы и значения, а также определяются границы употребления. Обосновывается разделение сибирских аборигенов по характеру обозначения их данным социополитонимом на две основные группы: народы Западной и Восточной Сибири. Указанные группы народов отличались тем, что по отношению к ним социополитоним «иноземцы» стал употребляться в разное время, с разной интенсивностью, с разным семантическим наполнением и характером лексической валентности. Доказывается, что социополитоним «иноземцы» применительно к народам Сибири имел преимущественно политическое звучание, означая переходное состояние от потенциального подданства к реальному, хотя и содержал в себе также этнокультурные и социально-правовые смысловые нагрузки, степень проявления которых зависела от контекста употребления самого социополитонима.
"иноземцы", сибирь, русско-аборигенные отношения, социополитоним, имагология
Короткий адрес: https://sciup.org/147219657
IDR: 147219657 | УДК: 94
Текст научной статьи "Иноземцы" - "свои" и "иные": понятийно-терминологическая классификация социально-политического статуса сибирских аборигенов в Московском государстве (конец XVI - начало XVIII века)
В процессе присоединения Сибири к Русскому государству в конце XVI – начале XVIII в. русские власти и землепроходцы для описания автохтонного сибирского населения, его социально-политических структур, хозяйственных занятий и культурного облика использовали понятийно-терминологический аппарат, представленный словами и выражениями, имевшими более или менее четко определенные смысловые значения. С их помощью русская сторона осуществляла идентификацию, классификацию и ранжирование социальных и потестарно-поли- тических структур сибирских народов, что оказывало влияние на ход и параметры их инкорпорации в российское социально-политическое и правовое пространство. Одной из важнейших лексем, применяемой русскими для номинации сибирских аборигенов, являлось слово «иноземцы». В рассматриваемое время оно активно использовалось центральными и местными органами государственной власти, церковнослужителями и представителями разных социальных групп русского населения, прежде всего служилыми людьми.
Зуев А. С., Игнаткин П. С. «Иноземцы» – «свои» и «иные»: понятийно-терминологическая классификация социально-политического статуса сибирских аборигенов в Московском государстве (конец XVI – начало XVIII века) // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2016. Т. 15, № 8: История. С. 67–85.
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2016. Том 15, № 8: История © А. С. Зуев, П. С. Игнаткин, 2016
Хронология и семантика слова «иноземцы», которое мы считаем социополитони-мом, применительно к коренным сибирским народам к настоящему времени являются слабо изученными [Игнаткин, 2013а; Конев, 2014б]. Ряд исследователей время его введения в оборот датировали XVI в., причем скорее всего умозрительно, поскольку не подкрепляли свои соображения ссылками на источники [Люцидарская, 1995. С. 166; 2008. С. 332, 333; Соколовский, 1998а. С. 60; Даме-шек, 2005. С. 257; Коваляшкина, 2005. С. 50; Мартынова, 2012. С. 13]. Другие, опираясь на известные им документы, полагали, что этот социополитоним стал активно использоваться с 1620-х гг. [Сословно-правовое…, 1999. С. 19; Зуев, 2011. С. 82] или с 1640-х гг. [Демин, 1995. С. 102; 2008. С. 53]. Наконец, третьи неопределенно указывали на его распространение уже в самом начале русской колонизации Сибири [Хаккарайнен, 2007. С. 160].
Относительно смысловой нагрузки данного социополитонима точки зрения исследователей во многом совпадали. Все они, отмечая его полисемантичность, основные его значения сводили к культурно-религиозным отличиям аборигенов Сибири от русских и их неполной политической подчиненности русской власти. Однако каждый из них делал акцент на разных значениях, содержащихся в слове «иноземцы», не анализируя всю его семантическую палитру. По мнению одних, указанный социополитоним в большей степени отражал представления русских о культурной и политической [Коваляшкина, 2005. С. 50; Мартынова, 2012. С. 13, 14] или культурной [Люцидарская, 1995. С. 165–169; 2008. С. 332, 333; Азиатская Россия…, 2004. С. 396] инаковости сибирских аборигенов, либо просто обозначал нерусских, иноплеменников, иностранцев [Русские мореходы…, 1952. С. 66; Порохова, 1969. С. 106, 107; Словарь языка…, 1971. С. 171]. По мнению других, он нес преимущественно политическую [Дамешек, 1983. С. 3; 2005. С. 257; Соколовский, 1998а. С. 61; 1998б. С. 76; 2001. С. 48; Пестерев, 2005. С. 53; Березиков, 2010. С. 57], культурно-географическую [Демин,
1995. С. 102, 103], конфессиональную [Опарина, 2007. С. 5, 6] 1 либо конфессионально-культурную [Слезкин, 2008. С. 56–58] смысловые нагрузки. Наконец, третьи пошли по пути учета и синтеза всех вышеназванных значений [Сословно-правовое…, 1999. С. 19; Конев, 2002. С. 75, 76; 2014б. С. 83; Зуев, 2011. С. 82–85].
Проведенный нами анализ контекстов и частоты использования социополитонима «иноземцы», принципов его лексической сочетаемости с другими словами в большом массиве разнообразных источников (прежде всего делопроизводственной документации 2, а также летописных и нарративных произведениях) позволил уточнить начало его применения к народам Сибири, выявить особенности его употребления, смысловые нагрузки и понятийные нюансы в социально-политическом дискурсе Московского государства в отношении народов разных сибирских регионов.
Один из первых случаев употребления слова «иноземцы» в русском языке зафиксирован в Новгородской I летописи старшего извода под 1203 г. в отношении иностранных купцов, находившихся в Киеве: «а что гости, иноземьця всякого языка» [Полное собрание…, 2000. С. 45]. Вплоть до XVI в. оно использовалось в основном в книжности Северо-Западной Руси для обозначения представителей других государств – «иных земель». В дипломатической документации данное слово стало широко употребляться со второй половины XVI в. [Сергеев, 1978. С. 128].
Самый ранний выявленный случай наименования аборигенов Сибири «иноземцами» зафиксирован в грамоте 1565 г. митрополита Московского и всея Руси Афанасия к
Г. Строганову. «Иноземцами» в ней названы татары, вогулы и югричи. Причем акцент был поставлен на конфессиональном значении этого слова: «И нынеча – деи приходят к ним (к Строгановым, в их приуральские владения. – А. З., П. И .) иноземци татарове, и гогуличи, и югричи некрещеные люди, и помышляют креститись в нашу православную христианскую веру» [Введенский, 1924. С. 153]. Второй случай его употребления, известный нам, относится к 1588 г. и представлен в форме «нововыезжий иноземец» – так назвал себя в челобитной Бухтараз мурза Карамышев, шурин сибирского царевича Маметкула, выехавший в Россию в 1586/87 г. [Лихачев, 1894. Приложения. С. 33] Другие ранние случаи использования данного соци-ополитонима (1597 г. [Акты исторические…, 1841. С. 466], 1605 г. [Собрание…, 1819. С. 201], 1609 г. [Русская историческая…, 1875. Стб. 184], 1614 г. [Акты, собранные…, 1836. Т. 3. С. 84; Документы…, 1994. С. 372]) фиксируются исключительно в языке официальной государственной документации. Они относятся к западносибирским татарам, вогулам, остякам, селькупам и самоедам.
Таким образом, слово «иноземцы» для обозначения аборигенного населения Сибири было введено в оборот во второй половине XVI – начале XVII в. представителями московской бюрократии – писцами митрополичьей канцелярии и служащими центрального аппарата власти, позаимствовавшими его из практики наименования им иностранцев – выходцев из других стран-«земель» как европейских, так и азиатских. Довольно быстро социополитоним «иноземцы» появился и в лексиконе сибирских воевод. Параметры его первоначального употребления в источниках позволяют утверждать, что он отражал представление русских об этническом, культурном и религиозном отличии коренных народов Сибири, а также указывал как на их политическую принадлежность к другой стране-«земле», так и на их недавнюю подчиненность великому государю. При этом акцент явно делался на политическое и религиозное состояние сибирских народов (подробнее см. : [Игнаткин, 2013б]).
Важно, однако, заметить, что номинация народов Западной Сибири «иноземцами» не сразу стала распространенной и устойчивой.
Во второй половине XVI – начале XVII в. обитатели этого региона, давно знакомые русским и не имевшие этнокультурного разнообразия, в русской деловой документации чаще обозначались либо этнонимами, имевшими административно-географическую привязку (тюменские, тоборинские, пелым-ские и т. д. татары / татаровя; сосьвинские, лялинские, тагильские, туринские и т. д. вагуличи; котские, ляпинские, белогорские остяки; обдорская, мангазейская, авасидская «самоядь»; и т. д.), либо, в случае совокупного наименования, геополитонимами – «сибирские люди», «сибирцы» (маркировавшими принадлежность к политическому образованию, находящемуся на опредленной территории – Сибирскому юрту (во второй половине XVI в.), или к населению «Сибирской земли», под которой с рубежа XVI– XVII вв. стала подразумеваться территория, прилегающая с востока к Уралу), либо же со-ционимами – «ясачные» / «неясачные» люди (указывавшими на степень принадлежности к общности подданных русского царя). В сибирских летописях XVII в., описывающих процесс завоевания Сибирского юрта (ханства), встречается также обозначение «язы-цы / языки», означавшее как иную (отличную от русской) речь, так и людей (народ), говорящих этой иной речью.
По мере движения русских землепроходцев по Восточной Сибири в делопроизводственной документации наряду с обозначением местных народов с помощью этнической и административно-географической лексики – енисейская «самоедь», «якольские люди» (так первоначально звали якутов), тунгусские люди / тунгусы, томские татары, «брацкие люди / браты», алазейские «чюхчи», «каменные» юкагиры и т. д. – активно начало использоваться слово «иноземцы», ставшее в деловом и бытовом языке Московской Руси XVII в. универсальным названием для аборигенов Сибири.
Превращение слова «иноземцы» в популярный социополитоним-идентификатор вполне понятно и объяснимо. Полисеман-тичность данного социополитонима делала его более приемлемым для обозначения ина-ковости сибирских народов, сильно отличавшихся от русских по многим параметрам, по сравнению с геополитонимами «сибирские люди», «сибирцы», которые актуализировали ненужную русским память об исчезнувшем Сибирском юрте 3, соционимами «ясачные / неясачные» люди, которые несли лишь указание на наличие / отсутствие поддани-ческих отношений к русскому царю, или же лингво-этносоционимом «языцы» / «языки», которым обозначались иные народы, не говорящие на русском (и шире на восточнославянском) языке.
К тому же, как мы полагаем, русской власти потребовалось включить разнообразное население Сибири, полиэтнокультурность которого стала явно осознаваться с выходом землепроходцев за пределы Северо-Западной Сибири, в существовавшую в Московском государстве модель деления народов на своих (православных подданных царя) и иных, не относящихся к числу своих. Для обозначения этих иных к началу присоединения Сибири уже использовалось слово «иноземцы», которое с конца XVI – начала XVII в. получило широкое распространение в русском социально-политическом дискурсе 4. И здесь следует заметить, что потребность в создании и распространении названия, которое бы собирательно (а не только по одному-двум параметрам) обозначало представителей других этносов, обычно возникает в случае внешней опасности или агрессии как попытка отгородиться и отграничить своих от иных / чужих, а также в связи с ростом этнического самосознания и этнической консолидации. Во всех отношениях вторая половина XVI – начало XVII в. явились переломными для России. В это время ускорились темпы формирования полиэтничного государства, консолидации русского этноса и роста в пределах государства численности «иноплеменников» – выходцев из Европы и Азии, а также состоялись тяжелейшие войны с иностранными державами.
С начала XVII в. частота употребления со-циополитонима «иноземцы» применительно к аборигенам Западной Сибири стала возрастать. Однако весь рассматриваемый период для их номинирования намного чаще применялись этнонимы и соционимы («ясачные» / «ясачные люди»), которые зачастую объединялись и снабжались административно-географическими словами-указателями. Особо заметим, что употребление изучаемого соци-ополитонима к коренным обитателям данного региона, начиная с наиболее ранних случаев, отличалось ограниченной лексической валентностью, порождавшей ограниченный комплект речевых конструкций. При описании народов Западной Сибири социополи-тоним «иноземцы» чаще всего объединялся либо с социальными (например, «иноземцы ясачные люди», «ясачные иноземцы»), либо с этническими (например, «у иноземцев у то-тар и остяков») словами-классификаторами. Зачастую он использовался без таких классифицирующих пояснений, вследствие чего лишь из контекста документа можно понять, какой конкретно народ назван «иноземцами». Еще одной спецификой являлось то, что в отношении западносибирских аборигенов указанный социополитоним применяли преимущественно представители центральной и местной администрации. Для лексики рядовых русских людей – служилых, посадских, промышленных, а также крестьян – он был не характерен, количество случаев его употребления ими весьма ограничено, к тому же они фиксируются лишь с середины XVII в.
Наконец, в отношении большинства аборигенов Западной Сибири (татар, остяков, вогулов, селькупов) социополитоним «иноземцы» в нормативных и делопроизводственных документах, а также нарративных источниках употреблялся обычно при описании мирного русско-аборигенного взаимодействия – шер-тования, сбора ясака, торговли, хозяйственных занятий, военного сотрудничества, пресечения злоупотреблений представителей русского населения и т. д. Примечательно, что многие этнотерриториальные группы Западной Сибири крайне редко номинировались «иноземцами» даже в тех случаях, когда выходили из повиновения русским властям и начинали военные действия против русских. Обычно татар, остяков, вогулов и селькупов в ситуации их выхода из подчинения называли «изменниками», «государевыми изменниками» и «ворами».
Более активно, но далеко не всегда, со-циополитоним «иноземцы» увязывался с политической неблагонадежностью, нелояльностью русским властям и вооруженным сопротивлением, когда употреблялся в отношении отдельных групп самоедов (ненцев), которых в ситуациях их неподчинения называли «воровскими / немирными иноземцами». Такая особая оценка неповиновения самоедов несомненно связана с тем, что многие их родовые группы и родовые объединения на протяжении всего XVII в. лишь номинально являлись подданными царя и часто проявляли враждебность к служилым и промышленным людям, в связи с чем русские воспринимали их скорее иными , чем своими 5. Правда, «иноземцами» самоедов обозначали не только в военном, но и в мирном контексте. Весьма редкие случаи употребления социополитонима «иноземцы» в контексте сопротивления и неповиновения в отношении других народов Западной Сибири свидетельствует о том, что они рассматривались как подданные – ясачные, а их «измены» и «воровство» считались временными явлениями, не могущими изменить их политический статус.
В памятниках книжности, прежде всего в сибирских летописях, социополитоним «иноземцы» в отношении западносибирских аборигенов хотя и применялся, но не стал популярным. По подсчетам М. А. Демина, он встречается единожды в Есиповской летописи основной редакции и в Кунгурском летописце, и несколько раз в Есиповской летописи Абрамовского вида, в Румянцевском же и Погодинском летописцах он вообще отсутствует [Демин, 1995. С. 133, 135; 2008. С. 53]. Использовался он также в Бузунов-ском летописце [Сибирские летописи, 1907. С. 305], в Ремезовской летописи [Там же. С. 303] и в Книге записной [1973. С. 11, 49, 62, 72]. Однако обычно летописцы предпочитали оперировать конкретными этническими названиями сибирских народов, а также употреблять по отношению к ним книжную лексику, не типичную для нормативных и делопроизводственных документов: «языцы», «окаянные», «зловерные» и др. «Иноземцами» же сибирские летописи называли аборигенов (татар, вогулов, остяков, самоедов) чаще всего при описании их подчинения в ходе завоевания Сибирского юрта Ермаком (см., например: [Сибирские летописи, 1907. С. 137, 207, 249, 333]). Данное обстоятельство позволяет предположить, что мотивом, обусловившим включение социополитонима «иноземцы» в летописные рассказы о «взятии Сибири» Ермаком, являлось желание летописцев обратить особое внимание на факт превращения западносибирских народов в новых подданных московского царя. Из этого, в свою очередь, следует, что указанный социополитоним наделялся значением неокончательного или недавнего включения в состав государства иноэтничных групп населения.
Начало применения социополитонима «иноземцы» к аборигенам юго-востока Западной (Алтай), а также Средней (бассейн р. Енисей) Сибири, несмотря на то, что многие из них (как, например, телеуты, енисейские кыргызы, тунгусы, буряты) были известны русским уже с первого десятилетия XVII в., фиксируется лишь с 1620-х гг. В дальнейшем по мере продвижения русских по просторам Восточной Сибири вплоть до Тихого океана и Амура этот социополитоним сразу начинал употребляться применительно к местным аборигенам. При этом с 1620–1630-х гг. народы указанных регионов, по сравнению с народами Западной Сибири, стали значительно чаще обозначаться «иноземцами». В их отношении употребление социополито- нима «иноземцы» к середине XVII в. становится нормой в делопроизводственных документах, причем увеличивается разнообразие речевых конструкций, использовавших его, и усложняется палитра его лексической валентности, особенно это заметно применительно к аборигенам северо-восточных районов Сибири. Причина этого нам видится в следующем: по мере продвижения на восток и северо-восток Сибири русские землепроходцы и администраторы сталкивались со все возраставшим количеством разных этно-территориальных / этнокультурных групп коренного населения, имевших разные названия (этнонимы), и это обстоятельство быстро актуализировало необходимость использования для всех них одного совокупного обозначения, фиксирующего их положение в социально-политическом и этнокультурном пространстве Московского государства, в которое они включались.
Более разнообразным стал и состав авторов тех текстов, в которых встречается данный социополитоним. Его активно, помимо представителей властных государственных инстанций разного уровня, стали употреблять служилые и прочие русские люди. Причем они, равно как и местные приказчики и воеводы, использовали слово «иноземцы» в своих отписках, сказках, челобитных, наказных памятях и другого рода документах более интенсивно, чем составители указов, грамот и наказов, работавшие в центральном учреждении, ведавшем Сибирью – приказе Казанского дворца (с 1599 г.), а затем (с 1637 г.) Сибирском приказе. Но при этом в памятниках книжности в отношении коренных обитателей Восточной Сибири данный социополитоним использовался так же редко, как и в отношении западносибирских аборигенов.
На протяжении XVII столетия (в основном начиная с 1630-х гг.) для номинирования этносов юго-восточной части Западной и всей Восточной Сибири социополитоним «иноземцы» использовался как сам по себе, так и в сочетании с разнообразными указателями-классификаторами: политическими (в варианте подданства: «великого государя / государевы / верные ясачные / государевы ясачные / ясачные вечные царского величества / мирные / подданые / царского вели- чества / ясачные» «иноземцы»; в варианте неподчиненности и сопротивления: «воровские / неясачные воровские / немирные / непокорные неприятельские / непокорные неясачные / непослушные / неприятельские немирные / неясачные» и т. д. «иноземцы»), этническими, а также племенными и родовыми названиями («иноземцы киргизы / тунгусы / юкагири / чукчи / анаулы / лютор-цы / ходынцы / якуты / буляши», «иноземцы онкоцкие / брацкие / корятцкие / тунгуские люди», «даурские / ламутцкие иноземцы», «иноземцы многих родов тунгусы», «иноземцы Тумучерского роду», «иноземцы Че-телкогирского, да Шамагирскаго, да Дил-кагирскаго и иных розных родов», и т. д.), административными – по подведомственности определенному русскому административному пункту («иноземцы Еравнинского / Братского» и т. д. острогов, «иноземцы Ниж-нево (Нижнеколымского. – А. З., П. И.) зимовья», «иноземцы Зашиверного и Подши-верного зимовей» и т. д.), географическими (либо с точной привязкой к определенному природно-географическому объекту: «баун-товские / закаменные / ильпейские / камчадальские / колымские / курильские / охотц-кие / чондонские / оленские / баргузинские / удинские / Каменного и Косухина острогов / Анюйского хребта» и т. д. «иноземцы»; либо в неопределенном варианте: «низовые» (живущие в низовьях реки), «украинные», «тамошних землиц», «тамошние» «иноземцы»), временными («старые (давно находящиеся в подданстве) / новоприискные / новопризывные / нововыезжие иноземцы»), культурными («иноземцы люди дикие», «сыроядцы», «всякие иноземцы розных языков», «крещеные / некрещеные иноземцы») и хозяйственными («скотиньи / скотные / конные / оленные иноземцы»). Эти указатели, применявшиеся зачастую в разных комбинациях, во-первых, уточняли, о каких именно «иноземцах» идет речь, во-вторых, позволяли осуществить их первичную классификацию по ряду явно заметных признаков. Наиболее распространенными были речевые конструкции, в которых социополитоним «иноземцы» объединялся с политическими, этническими и географическими указателями-классификаторами. При этом следует отметить, что географические указатели (привязки к опре- деленной местности) применялись тем чаще, чем более обширные территории занимали «иноземцы» (наиболее широкий спектр таких указателей обнаруживается в отношении тунгусов, проживавших от Енисея до Охотского моря и Амура).
Обратим также внимание на то, что в делопроизводстве социополитоним «иноземцы» с 1630–1640-х гг. очень часто выступал в собирательно-обобщающем значении – без указания на конкретные этнические группы – для совокупного обозначения аборигенов либо всей восточной части Сибири (иногда с уточнением «сибирские»), либо ее отдельных регионов и районов, особенно северо-восточных («ленские иноземцы», «иноземцы колымские мужики», «погыцких новых неясашных тамошних землиц иноземцы»), либо вообще еще точно не идентифицированных («иноземцы», «новых немирных землиц иноземцы», «многие иноземцы розных языков», «новоприисканные всякие иноземцы», «ыные иноземцы», «немирные неясачные иноземцы розных родов» и т. п.). Высокая частота употребления на крайнем северо-востоке Сибири социополитонима «иноземцы» в собирательно-обобщающем значении объясняется слабой осведомленностью русских землепроходцев об обитателях и географии этого региона. Для сравнения заметим, что западносибирские народы назывались собственно «сибирскими иноземцами» значительно реже.
Социополитоним «иноземцы» применительно к аборигенам рассматриваемых регионов употреблялся как в мирном или нейтральном контексте (в основном в документах, исходивших из приказа Казанского дворца и Сибирского приказа, и в той их части, где нормировались правила поведения русских в отношении аборигенов, а также в дипломатических обращениях к правителям соседних народов и государств – монголам, калмыкам, китайскому богдохану), так и, причем намного более интенсивно, в контекстах, описывавших независимое от русской власти положение аборигенов, их нежелание подчиняться, а также конфликтное (военное) русско-аборигенное взаимодействие (в делопроизводственном языке местных русских администраторов, комбатантов и колонистов). Это вполне объяснимо: наро- ды юго-восточной части Западной Сибири и Восточной Сибири оказали русским более упорное и длительное сопротивление, нежели народы Западной Сибири.
Семантика слова «иноземцы», как уже говорилось выше, по отношению к разным коренным народам Сибири заметно варьировалась. Расстановка акцентов на том или ином смысловом значении, содержащемся в данном слове, зависела от места и статуса, занимаемого сибирскими народами в социально-политическом пространстве Московского государства, от характера их взаимодействия с русской властью и русскими и от их восприятия русской стороной. Соответственно, то или иное значение данное слово приобретало в зависимости от контекстов, описывавших разные варианты русско-аборигенных взаимоотношений. Эти значения усиливались с помощью речевых конструкций, в которых социополитоним «иноземцы» сопрягался с разными словами, выполнявшими функцию указателей-классификаторов, благодаря чему приобретал разные смысловые нагрузки и понятийные нюансы. При этом выявляются два макрорегиональных варианта его употребления, которые условно можно назвать западносибирским и восточносибирским.
В территориальных рамках Западной Сибири в употреблении этого слова отчетливо прослеживается акцентирование внимания на политическую неадаптированность местных народов, уже являвшихся подданными-я-сачными, к российской государственности. Но при этом в официальных документах центральных правительственных учреждений социополитоним «иноземцы» по отношению к местным аборигенам на протяжении всего XVII в., как уже указывалось, употреблялся преимущественно в нейтральном значении, обозначая ясачноплательщиков, и не нес в себе явно выраженного смыслового указания на опасность с их стороны. Исключением являлись лишь самоеды, применительно к которым данный социополитоним употреблялся в контекстах, озвучивавших состояние их неповиновения и враждебности.
Значения, актуализируемые в социополи-тониме «иноземцы» применительно к народам юго-восточной части Западной и всей Восточной Сибири, заметно отличались от западносибирского варианта. В восточносибирском варианте контексты употребления данного слова в разного типа документах свидетельствуют о том, что русскими в большей степени упор делался на таких его значениях, как политическая независимость, сопротивление, противоборство, неподчи-ненность или неокончательная подчиненность русской власти. На это явно указывает высокая частота использования социополи-тонима при описании военной опасности, исходящей от аборигенов данных регионов, а также процедур их замирения. Гамма оттенков, наполнявших этот социополитоним семантикой конфликтности, устанавливается его сочетаемостью со словами и выражениями, передающими чувства враждебности и угрозы: «воровские», «изменники», «непослушные», «неясачные», «немирных земель люди» и др. Акцент на значении «неподчи-ненность», содержащемся в социополитони-ме «иноземцы», также отчетливо поставлен в ряде справочно-географических произведений, созданных в конце 1660 – начале 1670-х гг. Так, в частности, в росписи Чертежа Сибири 1667 г. при описании р. Бии и Телецкого озера указывается, что «около тех мест кочюют многие иноземцы: саянцы, мундусцы, кайманцы, таутелеуты, яумун-дуссы, учюги, карагайцы, а ясаку великим государем не платят» [Гольденберг, 1962. С. 267].
Еще одной особенностью восточносибирского варианта использования социополито-нима «иноземцы» являлось номинирование им народов, слабо известных или совершенно незнакомых русским. Особенно часто такое номинирование встречается в документах, описывающих процесс продвижения русских землепроходцев по северо-востоку Сибири. К примеру, в отписке якутских воевод В. Пушкина и К. Супонева в Москву от 1646 г. сообщается, что в бассейнах рек Северо-Восточной Сибири обитают многочисленные необъясаченные группы «тунгусов и юкагирей, и ковымцов, и шерембойцов и иных розных родов иноземцов» [Открытия…, 1951. С. 216]. В наказной памяти тех же якутских воевод сыну боярскому В. Власьеву, откомандированному на Колыму в 1647 г., предписывалось приводить «под государеву, царскую высокую руку» «новых немирных землиц неясашных юкагирей и тунгусов и всяких иноземцев розных языков, которые по тем рекам и по иным по сторонним рекам живут» и «ясак и поминки с тех с новопри-искных всяких иноземцов збирать» [Там же. С. 236, 237] (курсив наш. – А. З., П. И. ). Учитывая этот факт, можно предположить, что, называя не только неподчиненные, но даже неизвестные народы Восточной Сибири «иноземцами», русская власть рассматривала их как своих возможных потенциальных подданных. В связи с этим еще раз вспомним о том, что ряд народов, уже известных русским с начала XVII в. – тунгусов, енисейских кыргызов, бурят, стали называть «иноземцами» лишь тогда, когда была дана установка на их подчинение. Обращает на себя внимание также то обстоятельство, что еще не подчиненные «немирные» и неясачные «иноземцы» нередко квалифицировались русскими как «изменники» 6, как будто они уже являлись настоящими подданными.
Наряду с заметными вариациями рассматриваемый социополитоним содержал в себе и смысловые значения, общие в отношении всех сибирских народов. В значительном числе случаев он наполнялся правовым содержанием. О том, что сибирские народы воспринимались как особая социально-правовая общность, свидетельствует постановка акцента на их специфичном статусе в структуре российского общества – она осуществлялась с помощью слов «иноземство» / «иноземчество» и выражения «братья иноземцы», которые подчеркивали их своеобразное правовое положение. К примеру, в случаях предоставления государственных льгот или каких-либо финансовых или правовых послаблений в отношении коренного населения Сибири часто употреблялось выражение «для их иноземства / иноземчества». Соответственно, в употреблении слова «иноземцы», помимо выражения прочих значений, заметно стремление отграничить аборигенов как представителей особой общности от чле- нов других социальных групп, проживавших в Московском государстве, прежде всего – от православных подданных царя. Эту мысль дополнительно подтверждает тот факт, что русские уравнивали между собой этнически совершенно не родственные народы Сибири. Так, в 1629 г. вышедшим из повиновения тубинским князцам Соту и Каяну было предложено «принести» «великому государю вину» и выплачивать «ясак противу иных своих братьев иноземцев, твоих государевых ясачных людей» [Миллер, 2000. С. 422, 423], под которыми явно понимались не просто кровные родственники тубинцев, а в целом ясачное населения Сибири, подчиненное московскому царю. В 1647 г. бурятским кышты-мам-данникам, которые не были тюрками 7, следовало привести в пример «их братьев иноземцев киргизов и тубинцев», являвшихся соответственно тюрками и тюркизирован-ными самодийцами, а также «иных многих земель всяких людей Сибирского царства» [Миллер, 2005. С. 320].
Номинирование сибирских аборигенов «иноземцами» также часто увязывалось с их неправославным вероисповеданием. Это отчетливо выявляется путем как изучения контекста документов, так и анализа сочетаемости и заменяемости данной номинации лексикой вероисповедального характера. В уже упоминавшейся грамоте московского митрополита Афанасия от 1565 г. татары, вогулы и югричи были отнесены к «иноземцам» в связи с тем, что они не являлись православными христианами. В этой же грамоте социополитоним «иноземцы» коррелировал со словами «неверные» и «некрещеные» [Введенский, 1924. С. 153], что позволяет судить о религиозном характере одного из его значений. В царской грамоте 1621 г. тобольским воеводам при оговаривании условий добровольного крещения в православие татар, остяков, самоедов и вогулов, они также были названы одним общим словом – «иноземцы» [Тобольский…, 1994. С. 148]. Религиозная семантическая нагрузка данного социополитонима прослеживается в отписке 1627 г. кузнецкого воеводы в Москву: в ней «иноземцами» обозначены как язычница – кузнецкая юртовская татарка Тоибика, так и католики – «литовские люди», служившие в кузнецком гарнизоне; все они пожелали принять православие [Русская историческая…, 1884. Стб. 468]. В наказе 1681 г. сибирского митрополита Павла игумену Феодосию о строительстве монастыря на р. Селенге, местное аборигенное население (скорее всего, буряты и тунгусы), еще не обращенное в православие, было обозначено «иноземцами» и «иноверцами всяких вер» [Древние…, 1875. С. 11]. В его же грамоте к Феодосию от 1683 г. аборигенки, с которыми сожительствовали местные русские, были названы «некрещеными иноземками» [Там же. С. 12]. О религиозной нагрузке изучаемого слова говорят и правительственные распоряжения 1685 и 1686 гг., в которых тобольские татары – при указании на их иноверие – были названы «иноземцами» [Полное собрание законов…, 1830. С. 663, 738].
Религиозную семантику социополитони-ма «иноземцы», однако, не следует преувеличивать. Как показывает анализ источников, для русской государственной власти и русского населения в процессе восприятия ими коренных народов Сибири на первый план выдвигалась не столько их иная вера, сколько особенности их политического и социально-правового статуса, а также их культурная специфика в самом широком смысле этого слова. Об этом определенно свидетельствует тот факт, что сибирских аборигенов, принявших православие, зачастую продолжали обозначать «иноземцами», прямо указывая на то, что они уже крещены («иноземцы крещеные», «иноземцы новокрещеные»), и даже объединять в одну группу с иноверцами: «иноземцы крещеные и некрещеные». Исключением являлись лишь те, кто, приняв крещение, зачислялся в служилые люди: их достаточно быстро и сослуживцы, и власть начинали идентифицировать как своих – русских людей.
Называя различные этносы Сибири одним словом «иноземцы» и тем самым мысленно конструируя из них одну общность, русские, несомненно, стремились подчеркнуть и их заметное этнокультурное отличие от самих себя – их инаковость, их не принадлежность к русскому православному народу. В связи с этим обратим внимание на то, что в русско-греко-латинском «Лексиконе», изданном в 1704 г., его составитель, справщик (редактор) московской типографии Ф. П. Поликарпов-Орлов объяснил значение слова «иноземец» посредством слова «иноплеменник» [Polikarpov, 1988. S. 287]. Слово же «иноплеменник» содержит в себе отчетливые этнокультурные коннотации, обозначая человека иного этнического происхождения, иной культуры, иной веры. И хотя указанное сравнение «иноземцев» с «иноплеменниками» было сформулировано Поликарповым в начале XVIII в., можно уверенно полагать, что оно отразило одно из смысловых значений слова «иноземцы», присутствовавших в русском дискурсе в более ранее время.
Другой (зачастую неизвестный) язык сибирских аборигенов, их образ жизни, духовные ценности, правила поведения не могли не создавать между ними и русскими ощутимого барьера во взаимопонимании, по крайней мере в период первых контактов. Вследствие этого аборигены должны были восприниматься русскими как люди, обладавшие некоей культурной автономией, внутренний мир которых был закрыт для непосредственного осознания и понимания. Поэтому, вполне возможно, одним из смысловых аспектов социополитонима «иноземцы» могла быть и идея неизвестности, непонятности и загадочности.
Подытоживая вышесказанное, можно констатировать, что социополитоним «иноземцы» применительно к аборигенам Сибири вошел в русскую деловую лексику во второй половине XVI в., с 1620–1630-х гг. он начал широко распространяться и приобретать популярность, а к середине XVII в. стал нормой делопроизводственных документов. Заметим, что с конца XVI в. данный социопо-литоним стал активно применяться и к народам Северного Кавказа – адыгам (черкесам), чеченцам, кумыкам и др., подчиненным Москве или находящимся в процессе подчинения (см., например: [Белокуров, 1889. С. 113, 120, 371, 559; Кабардино-русские…, 1957. С. 138–140, 264, 273, 318, 319; Русско-чеченские…, 1997. С. 114, 115]). Включенные же в состав Московского государства поволжские народы – татары, марийцы, чуваши, согласно известным нам источникам, обычно не идентифицировались как «иноземцы». И в этой связи обращает на себя внимание тот факт, что северокавказские народы, процесс инкорпорации которых в состав России начался в середине XVI в., в последующее время были весьма слабо адаптированы русской властью. Названные же поволжские народы, напротив, были интегрированы в российское социально-политическое и правовое поле достаточно прочно уже к концу XVI в. Исходя из этого можно предположить, что распространение в XVII в. социополитонима «иноземцы», изначально обозначавшего иностранцев, на отдельные этносы, входившее в состав Московского государства или находившееся в процессе подчинения, определялось степенью и полнотой их подчинения русской власти. Кроме этого, популяризация слова «иноземцы» могла явиться реакцией правительственного аппарата на сложение полиэтничного государства.
Анализ контекстуальных связей, в которых находился социополитоним «иноземцы», свидетельствует о том, что он применялся для описания сибирских аборигенов как лояльных русской власти и подданных (ясачных), так и воинственных, враждебных и непокоренных. Подтверждается уже сделанное в историографии наблюдение о поли-семантичности данного социополитонима. Наше же исследование позволяет заключить, что его смысловое поле включало в себя три основных представления: 1) о степени подчиненности / неподчиненности аборигенов русской власти и их адаптированности к ней; при этом в западносибирском варианте акцент делался на неокончательную политическую адаптированность, а в восточносибирском – на слабую подчиненность или же на неподчиненность и на готовность к сопротивлению; в этом смысле под «иноземцами» подразумевались либо иные народы / люди, которые находились в начале процесса превращения в своих – настоящих подданных русского царя (общесибирский вариант), либо иные, которые, будучи чужими и даже врагами, в перспективе могли начать превращаться в своих (восточносибирский вариант); 2) об особом социально-правовом статусе сибирских этносоциумов в структуре российского общества 8; 3) об их этно-культурной (в том числе религиозной) инаково-сти. Социополитоним также выполнял функцию слова-обобщения для обозначения уже известных и еще неизвестных этнотеррито-риальных групп коренного сибирского населения.
Можно также констатировать эволюцию указанных представлений: если в условиях подчинения или недавного объясачивания изучаемый социополитоним имел более политическое (точнее даже военно-политическое) значение, то по мере инкорпорирования аборигенов в российское политико-правовое пространство он все более приобретал этнокультурное и социально-правовое звучание, не теряя, однако, и политической нагрузки, указывавшей на незавершенность процесса политико-правовой инкорпорации и включения в российский социум. Эта незавершенность хорошо демонстрируется тем, что социополитоним «иноземцы» не получил в русском законодательстве XVII в. сколько-нибудь внятного правового определения 9. Главный законодательный акт того времени – Соборное Уложение 1649 г., прописавшее статусные роли и функции основных социальных групп населения Московского государства, ни словом не обмолвилось о собственно сибирских иноземцах 10. Соответ- ственно, можно полагать, что определение на законодательном уровне прав и обязанностей сибирских «иноземцев», их местоположения в социальной структуре российского сообщества было еще не актуально для государства. Составители Уложения по сути не осознали народы Сибири как «навеки» подданных русского монарха, еще не осмыслили в юридических категориях протекавший процесс их «присвоения» Московским государством. Показательно и то, что нормы русского судебного законодательства стали распространяться на сибирских иноземцев лишь с начала XVIII в. (см.: [Вершинин, 1998. С. 133, 135, 136]). Восприятие русской властью иноземцев, даже ясачных, как не полностью своих, подчеркивание специфики их положения выражались и особой (по сравнению с русскими) квалификации их выступлений против государственного порядка. Как заметил А. Ю. Конев, если применительно к русским такого рода преступления оценивались как «бунт» и «заговор», то к иноземцам – как «измена» и «шатость» [2006. С. 173].
Учитывая вышесказанное, можно согласиться с Е. П. Коваляшкиной, которая считала, что «термин» «иноземцы» в контексте отношения к русской государственной власти означал «не полностью закрепившиеся в подданстве», «подобные иностранцам» [2005. С. 50]. Такая интерпретация подкрепляется и тем обстоятельством, что «иноземцами» в Сибири называли не только тех, кто принял подданство, но и тех, кто оставался вне юрисдикции русской власти (неясачные «иноземцы») и / или оказывал вооруженное сопротивление (немирные «иноземцы»), но потенциально мог стать подданным.
Таким образом социополитоним «иноземцы» применительно к народам Сибири имел преимущественно политическое звучание, означая переходное состояние от потенциального подданства к реальному, хотя и содержал в себе также этнокультурные и социально-правовые смысловые нагрузки, степень проявления которых зависела от контекста употребления самого социопо-литонима. Его «политизированность» подтверждается и тем, что по мере закрепления дившиеся в составе Русского государства, фигурируют в Уложении неоднократно.
народов Сибири в российском подданстве, ускорения процесса их административной, правовой и культурной руссификации он в течение XVIII в. вышел из употребления, так и не став обозначением этнокультурной и социально-правовой инаковости. На смену ему пришли другие обозначения – «иноверцы» и «инородцы», имевшие иные смыслы, связанные с религиозным (первый) или культурно-социальным (второй) значением, но не политическим (см.: [Слокум, 2005; Конев, 2014а, 2014б; Бобровников, Конев, 2016]). А поскольку слово «иноземцы» выступало не только социальным, но и политическим определителем (обозначая политический статус социальной группы по отношению к русскому монарху), то мы и квалифицируем его как социополитоним.
Заключая, отметим, что сделанные нами выводы ограничиваются употреблением и смысловым значением социополитонима «иноземцы» применительно лишь к сибирским аборигенам. Не исключено, что изучение его использования в рамках других регионов и в отношении других групп населения Московского государства (например, коренных народов Поволжья или Северного Кавказа, или выходцев из стран Европы, находившихся на русской службе) может скорректировать изложенное выше представление о том, какие смысловые нагрузки он имел в московском социально-политическом дискурсе XVI–XVII вв.
Список литературы "Иноземцы" - "свои" и "иные": понятийно-терминологическая классификация социально-политического статуса сибирских аборигенов в Московском государстве (конец XVI - начало XVIII века)
- Азиатская Россия в геополитической и цивилизационной динамике. XVI-XX века/В. В. Алексеев, Е. В. Алексеева, К. И. Зубков, И. В. Побережников М.: Наука, 2004. 600 с.
- Акты исторические, собранные и изданные Археографической комиссиею. СПб.: Тип. экспедиции заготовления гос. бумаг, 1841. Т. 1. 603 с.
- Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи археографическою экспедициею Императорской академии наук. Дополнены и изданы Высочайше учрежденною Коммиссиею. СПб.: Тип. II Отд. Собств. Е. И. В. Канцелярии, 1836. Т. 1. 537 с.; Т. 3. 518 с.
- Александров В. А., Покровский Н. Н. Власть и общество. Сибирь в XVII в. Новосибирск: Наука, 1991. 401 с.
- Белокуров С. А. Сношения России с Кавказом. Материалы, извлеченные из московского главного архива министерства иностранных дел. М.: Унив. тип., 1889. Вып. 1. 744 с.
- Березиков Н. А. Казаки-землепроходцы и аборигены Сибири: первые встречи и рождение образов//Гум. науки в Сибири. 2010. № 3. С. 56-59.
- Бобровников В. О., Конев А. Ю. Свои «чужие»: инородцы и туземцы в Российской империи//Ориентализм vs ориенталистика: Сб. науч. тр. М., 2016. С. 167-206.
- Введенский А. А. Торговый дом XVI-XVII веков. Л.: Путь к знанию, 1924. 182 с.
- Вершинин Е. В. Воеводское управление в Сибири (XVII век). Екатеринбург: МУМЦ «Развивающее обучение», 1998. 204 с.
- Гольденберг Л. А. Подлинная роспись Чертежа Сибири 1667 г.//Тр. Ин-та истории естествознания и техники АН СССР. М., 1962. Т. 42, вып. 3. С. 252-271.
- Дамешек Л. М. Сибирские инородцы в имперской стратегии власти//Современное историческое сибиреведение XVII -начала XX в.: Сб. науч. тр. Барнаул, 2005. С. 257-266.
- Дамешек Л. М. Ясачная политика царизма в Сибири в XIX -начале XX века. Иркутск: Изд-во ИрГУ, 1983. 136 с.
- Демин М. А. Коренные народы Сибири в ранней русской историографии: Учеб. пособие. СПб.; Барнаул, 1995. 197 с.
- Демин М. А. Литературно-исторические сочинения XVII века о коренных народах Западной Сибири//Народонаселение Сибири: стратегии и практики межкультурной коммуникации (XVII -начало XX века): Сб. ст. Новосибирск, 2008. С. 7-57.
- Документы Печатного двора (1613-1615 гг.). М.: Наука, 1994. 479 с.
- Дополнения к актам историческим, собранные и изданные Археографическою комиссиею. СПб.: Тип. II Отд. Собств. Е. И. В. Канцелярии, 1846. Т. 1. 436 с.
- Древние церковные грамоты Восточно-Сибирского края (1653-1726) и сведения о даурской миссии, собранные миссионером архимандритом Мелетием. Казань: Унив. тип., 1875. 231 с.
- Ерусалимский К. Ю. Рождение государственной измены: Россия и Польско-Литовское государство конца XV -XVI в.//Предательство: опыт исторического анализа: Сб. ст. М., 2012. С. 154-187.
- Зуев А. С. Российское государство и народы Сибири: характер и этапы взаимоотношений во второй половине XVI -начале XX в.: Учеб. пособие. Новосибирск, 2011. 188 с.
- Игнаткин П. С. Историография изучения соционима «иноземцы» применительно к аборигенам Сибири в дискурсе Московского государства XVI-XVII вв.//Центральноазиатские исторические чтения: Сб. материалов II Межрегион. науч.-практ. конф. Кызыл, 2013а. Вып. 2. С. 55-60.
- Игнаткин П. С. Соционим «иноземцы» применительно к народам Сибири в деловой письменности Московской Руси (вторая половина XVI -начало XVII в.)//Гум. науки в Сибири. 2013б. № 4. С. 92-94.
- Кабардино-русские отношения в XVI-XVIII вв.: Документы и материалы/Сост. Н. Ф. Демидова, Е. Н. Кушева, А. М. Персов. М.: Изд-во АН СССР, 1957. Т. 1. 494 с.
- Казахско-русские отношения в XVI-XVII веках. (Сборник документов и материалов)/Сост. Ф. Н. Киреев, А. К. Алейникова, Г. И. Семенюк, Т. Ж. Шоинбаев. Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1961. 759 с. Книга записная/Подгот. к печати Л. А. Пановой. Томск: Изд-во ТГУ, 1973. 115 с.
- Коваляшкина Е. П. «Инородческий вопрос» в Сибири: Концепции государственной политики и областническая мысль. Томск: Изд-во ТГУ, 2005. 326 с.
- Конев А. Ю. «Инородцы» Российской империи: к истории возникновения понятия//Теория и практика общественного развития. 2014а. № 13. С. 117-120.
- Конев А. Ю. Колониальный дискурс имперских классификаций: историки о термине «иноземцы» в отношении народов Сибири//Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов, 2014б. № 6. Ч. 1. С. 81-86.
- Конев А. Ю. Народы Западной Сибири в социальной структуре России XVII-XIX веков//Сословия, классы, страты российского общества: история и современность: Тр. Междунар. науч.-теор. конф. СПб., 2002. С. 74-79.
- Конев А. Ю. О роли конфессионального фактора в процессе интеграции народов Западной Сибири в состав России. XVII век//Проблемы взаимодействия человека и природной среды: Материалы итоговой научной сессии ученого совета Института проблем освоения Севера СО РАН 2003 г. Тюмень, 2004. Вып. 5. С. 51-55.
- Конев А. Ю. Шертоприводные записи и присяги сибирских «иноземцев» конца XVI -XVIII в.//Вестн. археологии, антропологии и этнографии. Тюмень, 2006. № 6. С. 172-177.
- Лихачев Н. Библиотека и архив московских государей в XVI столетии. СПб.: Тип. В. С. Балашева, 1894. 240 с.
- Люцидарская А. А. От «иноземцев» к «инородцам» (один из аспектов колонизации Сибири)//Аборигены Сибири: проблемы изучения исчезающих языков и культур: Тезисы Междунар. науч. конф. Новосибирск, 1995. Т. 2: Археология. Этнография. С. 165-169.
- Люцидарская А. А. Стереотипы поведения служилых людей в отношениях с аборигенным населением Сибири. XVII -начало XVIII века. К постановке вопроса//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий: Материалы Годовой сессии ИАЭТ СО РАН 2008 г. Новосибирск, 2008. Т. 14. С. 330-333.
- Мартынова Е. П. Народы Северо-Западной Сибири: дефиниции и научно-политический дискурс//Этнограф. обозрение. 2012. № 2. С. 13-18.
- Материалы по истории Узбекской, Таджикской и Туркменской ССР/Ред. А. Н. Самойлович. Л.: Изд-во АН СССР, 1932. Ч. 1. 524 с.
- Миллер Г. Ф. История Сибири. 2-е изд. М.: Вост. лит., 2000. Т. 2. 796 с.; 2005. Т. 3. 598 с.
- Опарина Т. А. Иноземцы в России XVI-XVII вв. Очерки исторической биографии и генеалогии. М.: Прогресс-Традиция, 2007. Кн. 1. 384 с.
- Открытия русских землепроходцев и полярных мореходов XVII века на северо-востоке Азии: Сб. док./Сост. Н. С. Орлова, А. В. Ефимов. М.: Географгиз, 1951. 620 с.
- Памятники дипломатических и торговых сношений Московской Руси с Персией/Под ред. Н. И. Веселовского. СПб.: Товарищество паровой скоропечатни Яблонский и Перотт, 1898. Т. 3. 736 с.
- Пестерев В. В. Организация населения в колонизуемом пространстве: Очерки истории колонизации Зауралья конца XVI -середины XVIII в. Курган, 2005. 237 с.
- Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1-е. СПб.: Тип. II Отд. Собств. Е. И. В. Канцелярии, 1830. Т. 2. 976 с.
- Полное собрание русских летописей. 2-е изд. М.: Языки славянской культуры, 2000. Т. 3: Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. 720 с.
- Порохова О. Г. Лексика сибирских летописей XVII века. Л.: Наука, 1969. 204 с.
- Русская историческая библиотека, издаваемая Археографической комиссией. СПб.: Тип. бр. Пантелеевых, 1875. Т. 2. 1261 стб.; Тип. Ф. Г. Елковского и Ко, 1884. Т. 8. 1362 стб.
- Русские мореходы в Ледовитом и Тихом океанах: Сб. документов о великих русских географических открытиях на Северо-Востоке Азии в XVII веке/Сост. М. И. Белов. Л.; М.: Изд-во Главсевморпути, 1952. 385 с.
- Русско-чеченские отношения: вторая половина XVI -XVII в.: Сб. док./Сост. Е. Н. Кушевая. М.: Вост. лит., 1997. 416 с.
- Сергеев Ф. П. Формирование русского дипломатического языка. Львов: Вища школа, 1978. 223 с.
- Сибирские летописи/Под ред. Л. Н. Майкова и В. В. Майкова. СПб.: Тип. И. Н. Скороходова, 1907. 456 с.
- Слезкин Ю. Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера: Пер. с англ. М.: Новое лит. обозрение, 2008. 512 с.
- Словарь русского языка XI-XVII вв. М.: Наука, 1976. Вып. 3. 288 с.; 1979. Вып. 6. 359 с.; 1986. Вып. 11. 456 с.
- Словарь языка мангазейских памятников XVII -первой половины XVIII вв./Сост. Н. А. Цомакион. Красноярск: Тип. «Красноярский рабочий», 1971. 581 с.
- Слокум Д. У. Кто и когда были «инородцами»? Эволюция категории «чужие» в Российской империи//Российская империя в зарубежной историографии. Работы последних лет: Антология. М., 2005. С. 502-531.
- Соборное Уложение 1649 года: Текст. Комментарии/Подгот. текста Л. И. Ивиной. Л.: Наука, 1987. 448 с.
- Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в государственной коллегии иностранных дел. М.: Тип. Селивановского, 1819. Ч. 2. 644 с.
- Соколовский С. В. Образы «Других» в российских науке, политике и праве. М.: Путь, 2001. 235 с.
- Соколовский С. В. Образы «Других»: историческая топология мышления о коренных народах в России//Этнометодология: проблемы, подходы, концепции: Сб. ст. М., 1998а. Вып. 5. С. 57-84.
- Соколовский С. В. Понятие «коренной народ» в российской науке, политике и законодательстве//Этнограф. обозрение. 1998б. № 3. С. 74-89.
- Сословно-правовое положение и административное устройство коренных народов Северо-Западной Сибири (конец XVI -начало XX века): Сб. правовых актов и документов/Ред.-сост. А. Ю. Конев. Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 1999. 238 с.
- Тобольский архиерейский дом в XVII веке/Подгот. Н. Н. Покровский, Е. К. Ромодановская. Новосибирск: Сиб. хронограф, 1994. 291 с.
- Хаккарайнен М. В. Шаманизм как колониальный проект//Антропологический форум. 2007. № 7. С. 156-190.
- Polikarpov F. Leksikon trejazycnyj = Dictionarium trilingue: Moskva 1704. Nachdruck und Einleitung von H. Keipert. München: Verlag O. Sagner, 1988. 836 S.