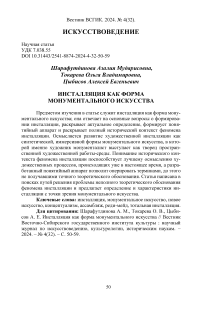Инсталляция как форма монументального искусства
Автор: Шарафутдинова А.М., Токарева О.В., Цыбисов А.Е.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного института культуры @vestnikvsgik
Рубрика: Искусствоведение
Статья в выпуске: 4 (32), 2024 года.
Бесплатный доступ
Предметом изучения в статье служит инсталляция как форма монументального искусства; она отвечает на основные вопросы о формировании инсталляции, раскрывает актуальное определение, формирует понятийный аппарат и раскрывает полный исторический контекст феномена инсталляции. Осмысляется развитие художественной инсталляции как синтетической, иммерсивной формы монументального искусства, в которой именно художник монументалист выступает как творец пространственной художественной работы-среды. Понимание исторического контекста феномена инсталляции поспособствует лучшему осмыслению художественных процессов, происходящих уже в настоящее время, а разработанный понятийный аппарат позволит оперировать терминами, до этого не получавшими точного теоретического обоснования. Статья написана в поисках путей решения проблемы неполного теоретического обоснования феномена инсталляции и предлагает определение и характеристики инсталляции с точки зрения монументального искусства.
Инсталляция, монументальное искусство, новое искусство, концептуализм, ассамбляж, реди-мейд, тотальная инсталляция
Короткий адрес: https://sciup.org/170207740
IDR: 170207740 | УДК: 7.038.55 | DOI: 10.31443/2541-8874-2024-4-32-50-59
Текст научной статьи Инсталляция как форма монументального искусства
Зарождение и формирование феномена инсталляции – это долгий, поступательный процесс, который невозможно рассматривать в отрыве от культурного исторического прогресса, и, следовательно, прежде чем прийти к конечному определению в рамках данной исследовательской работы, необходимо рассмотреть ретроспективу и генезис феномена инсталляции.
Искусство инсталляции возникло по историческим меркам не так давно и лишь в последние десятилетия смогло сформироваться в более стабильный жанр искусства, однако в ней все еще много неразработанных тем. Новизна заключается в том, что инсталляция является формой монументального искусства, так как затрагивает тему манипуляции с пространством и неминуемо влечет за собой масштабирование, а также работу с множеством переменных, таких как: форма, текстура, пространство, движение и включение зрителя в среду инсталляции. Все это входит в круг задач и компетенций художника-монументалиста, для него инсталляция является одним из преимущественных путей развития в искусстве.
Проблема, которая поднимается в данной статье, заключается в недостаточной теоретической презентации феномена инсталляции, отсутствии точного определения, спутанности и отсутствия четкого понятийного аппарата.
Авторы исследования предприняли попытку внести структурную ясность в теоретические исследования, а также осветить возможные пути развития этой формы искусства в нынешнее время с учетом исторического анализа и условий XXI века.
В статье использовались сравнительный и типологический подходы к предмету нашего исследования. С целью обнаружения предпосылок к формированию художественной инсталляции в истории культуры до XX в. применяется культурно-исторический подход. Сравнительный анализ произведений позволяет нам выявить преемственность и заимствования российских художников у западных авторов, а типологический анализ – проследить социокультурную среду формирования данной формы в России и за рубежом.
Технологический прорыв начала ХХ в. изменил это направление. Появление фотографии освободило искусство, а прежде всего живопись от необходимости документировать действительность такой, какая она есть. Постепенно сложились идеи нового искусства, художники получили больше художественной свободы и стремились использовать ее для утверждения собственных художественных принципов.
Авангард и возникший следом неоавангард формировали новое видение цели искусства, и апогеем этих творческих течений стало возникновение концептуального искусства – концептуализма (от лат. conceptus – мысль, представление). Инсталляция стала его результатом и, следовательно, вобрала в себя его основные философские концепции, отражая как идейное содержание, так и формы, и средства концептуализма.
Определение инсталляции как феномена в художественном искусстве встречает некоторые трудности. Широкий спектр различий в форме, содержании, условиях и масштабе создаваемых произведений под названием "инсталляция" сейчас так широк, что это лишает нас какой бы то ни было определенности. Самое распространенное определение, данное в учебном пособии «Искусствоведение. Инсталляция: новая реальность», звучит так: «Инсталляция (от англ. installation – установка, размещение, монтаж) – форма современного искусства, представляющая собой пространственную композицию из различных готовых материалов и форм (природных объектов, промышленных и бытовых предметов, фрагментов текстовой и зрительной информации)» [1]. В ранний период возникновения пользовалось для других целей – обозначить группу картин (в XX в. еще и фотографий) и скульптур, организованных на какой-либо выставке. Эта проблема делала определение феномена инсталляции как формы современного искусства довольно размытой, вплоть до 60-х гг. прошлого века.
Вернемся к характеристикам и определению термина «инсталляция». Авторы данного исследования считают необходимым дать краткий и ясный взгляд на структуру инсталляционного искусства. Имея много общего со скульптурой, тоже являясь пространственной композицией, инсталляция достаточно легко вошла в тело искусства, однако имела много отличного от пластики: в то время как скульптура предполагала под собой некую законченную форму, каркас, который поддается довольно простому сенсуальному познанию, она, напротив, ситуативна и неподконтрольна пространству. Наоборот, инсталляция превращает пространство в инструмент, моделируя его вокруг себя.
В подтверждение этому стоит привести определение инсталляции, которое даёт в своей статье ««Лингомания» И. Макаревича» А. Монастырский: «… художник, работающий с инсталляцией, использует пространство как инструмент, и в результате возникает нечто… что является эстетическим актом» [2]. Об этом же упоминала исследовательница К. Пол, говоря о том, что «цель» инсталляции – это создание некоего «пространства», которое способно перенести зрителя в «спроецированную реальность». К похожему выводу приходит Е. Та-вани в статье «Атмосфера в искусстве инсталляции» (2018), которая обозначает инсталляцию как «работу-среду», погружающую зрителя в атмосферу художника – творца этой среды.
Внимание инсталляционного искусства к пространству и эксперименты с ним не случайны. Как говорилось выше, рождаясь из формы организации произведений искусства, инсталляция переходит к манипуляции пространством, из плоскости полотна выходя в трехмерное измерение. Эта задача приводит нас к выводу о том, что художественная инсталляция имеет несколько фаз развития – от абстракции к коллажу , от коллажа к ассамбляжу , от ассам-бляжа к инсталляции . В каждой из этих фаз формировались свои понятия и развивались свои процессы.
В связи с этим важно упомянуть, что наиболее плавно и легко проследить хронологическое развитие можно на европейской, в первую очередь, и на американской, во вторую очередь, творческой арене. Именами, с которыми связано зарождение инсталляции, были Марсель Дюшан (1887-1968) и Эль Лисицкий (1890-1941). Именно их революционные идеи о новом искусстве стали основой, на которой формировался базис инсталляционного искусства.
На этом этапе развития этой прото-инсталляции их эстетика заявляет о вхождении в теорию искусства понятия реди-мейда, известный именем М. Дюшана. Марсель Дюшан, в истории искусства уже названный классиком инсталляции, ввел термин «реди-мейд» как «бытовой объект, изготовленный фабричным способом и получивший возможность стать произведением 53
искусства» [3].
В этом смысле М. Дюшан декларировал совершенно новую формулу искусства: отныне искусство — это не бледная копия реальности, а то, что взято непосредственно из реальности. Размышлять о реди-мейдах он начал в 1913 г., когда в одной из своих заметок сделал запись «произведения искусства, которые не были бы искусством». Дюшан четко указывает свои цели: он создает предмет искусства другой категории, «произведение искусства, которое не является искусством». Строго говоря, это была не столько идея, сколько революция в концепции и определении произведения искусства. Это стало отправной точкой, открывшей для художников новые возможности для манипулирования реальностью, включать в арт-объект что-то, что раньше не было медиумом искусства [3].
Хотя в момент своего рождения концепция реди-мейда казалась странной и даже абсурдной, в действительности она была диалектичной и ясной. Дюшан показывал, что предмет искусства осмысливается как идея, без физического вмешательства художника, которое в то время было возможно только в фотографии и кинематографе, которые не расценивались как высокие искусства. Неслыханно было применить эти критерии к традиционным искусствам, однако Дюшан запустил этот процесс. То, что мы имеем сейчас в современном искусстве XXI в., технологическое и цифровое искусство, вопросы оригинала и копии, служившие в прошлом парадигмой для оценки искусства, стали свободнее и доступнее.
Если Марсель Дюшан открыл для художников фабричные и найденные объекты, как предмет искусства, то второе важное понятие для инсталляции предвосхитил работающий в это же время на другом конце земного шара советский художник-супрематист, творивший в абстракционистском ключе, Эль Лисицкий.
Свои проун-комнаты 1920-х гг. он выставлял и на Большой Берлинской выставке, и, в первую очередь, это были комнаты или пространства, представляющие собой цельный единый арт-объ-ект. Для понимания определения проун-комнат, нужно дать определение «проуна» — неологизм, введенный художником для определения его абстрактных полотен, акроним «Проектов утверждения нового».
И его «Комнаты проунов» представляли собой такие пространства, в которых зритель мог передвигаться для того, чтобы исследовать эти проекты. В своем эссе «Пространство проунов» Э. Лисицкий утверждал, что «пространство не только для глаза, это не картина; в нем следует жить». Для художника пространство – это не то, «что можно увидеть через замочную скважину или открытую дверь», оно такое же живое, как люди в нем, и не должно иметь форму «раскрашенного саркофага». Э. Лисицкий активно 54
выступал за отречение от старого, запыленного предназначения выставочных пространств, от «рухляди» выставочных залов, и активно предлагал революционные идеи их организации. Именно эти передовые, свежие идеи о «выходе за раму» и породили знаменитые «Комнаты проунов» (1923) и «Кабинет абстракций » (1927 ), и концепт которых описывал художник в своем эссе. «Эта выставка не должна быть жилой комнатой. Выставку обходят по кругу. Поэтому пространство следует организовать так, чтобы побуждать к его обходу» [4].
Именно сюрреалистическая выставка в Париже 1938 г. рассматривается как предшественница искусства инсталляции, первая обратившаяся к теории бессознательного, открытой в первой половине XX в. В оформлении экспозиции немаловажную роль сыграли Сальвадор Дали, Ман Рей и Бенжамин Пере , а Марсель Дюшан осуществлял общее руководство в роли генерального арбитра.
Художники-сюрреалисты постарались воздействовать на все органы чувств посетителей: установили в центре машину для обжарки кофе и все помещение наполнилось приятным ароматом, по галерее разносилась тревожная аудиозапись истерических голосов пациентов психиатрической больницы, которая, по словам Ман Рей, «отбивала у посетителей всякое желание смеяться и шутить» [5]. По проекту, открытие выставки должно было происходить в темноте и картины были погружены в темноту, поэтому гостей снабдили фонариками, чтобы они перемещались по выставке.
В дальнейшем искусство инсталляции развивалось в этом направлении. В середине XX в. оно шло преимущественно в Центральной Европе и США и концентрировалось в Париже, Берлине, Нью-Йорке.
В 50-е гг. на американском побережье господствовало два разнонаправленных художественных течения, напрямую влиявших на искусство инсталляции — поп-арт и минимализм. В американском искусстве 50-60-х гг. мы почти не найдем инсталляций, похожих на выставку сюрреалистов 1938 г., в основном, по причине господства минимализма как на Западном, так и на Восточном побережье. Минимализм возник как ответ на усталость от культа потребления, который пропагандировал поп-арт и рекламу; художники и скульпторы минималисты стремились очистить пространство от всего лишнего, сосредоточив внимание зрителя на самом себе.
Наступившая эпоха потребления «продуктов» художественного рынка вызвала активное сопротивление. Часть искусства, в особенности инсталляция, стремилась стать настолько сложной, абстрактной и концептуальной, чтобы зрители-«потребители» просто не могли понять нового искусства. Сценой для этого опыта служили тщательно 55
организованные помещения без каких-либо материальных объектов – как в работах Роберта Ирвина, Джеймса Таррелла, Майкла Ашера, Брюса Наумана и др. К. Бишоп дает такой комментарий их творчеству: «В таких произведениях, как «Акустическая стена» Брюса Наумана (1971) или инсталляции Майкла Ашера («Без названия», 1969), Роберта Ирвина («Дробный свет – Потолок, частично затянутый тканью – проволока на уровне глаз», 1970), прослеживается одна тенденция: инсталляция трактуется как некое холодное, белое, однообразное пространство» [5].
Инсталляции Роберта Ирвина (род. 1928 г.) служат образцовым примером дематериализации и абсолютного минимализма.
Акцент на реальных материалах в 1960-1970-х гг. трансформируется в интерес к прямой интеграции зрителя в конце 70-х и начале 80-х гг. Это отсылает нас к термину тотальной инсталляции, введенному советским художником Ильей Кабаковым, для которого его произведения строились вокруг смыслового центра – зрителя, погружая его в эммер-сивную среду инсталляций. По мнению российской исследовательницы А. М. Орловой «тотальная инсталляция представляет собой монументальную форму художественной инсталляции» [3].
Илья Кабаков (род. 1933 г.) – значимая фигура в искусстве инсталляции не только в истории российского искусства, но и мировая величина. Именно он дал невероятный толчок развития в сторону все большей монументальности, иммерсивности, концептуального замысла инсталляции. Блестящим примером служит работа «Человек, улетевший в космос из своей комнаты» (1985). В своем произведении художник выстраивает некую сюрреалистичную сцену, сюжет которой предлагается разгадать зрителю. Кабаков одним из первых развивает в своем творчестве идею полноценного погружения зрителя в инсталляцию, и на примере других художников мы можем это наблюдать.
В 1990-х гг. инклюзивное участие технологий в искусстве инсталляции было так высоко, что в этом десятилетии зародилось и оформилось так называемое «цифровое искусство». Искусство цифровых технологий имело огромное влияние на инсталляцию, и как самая всеядная форма искусства, она принимала все, что цифровизация могла дать ей.
Опыт всего XX века позволил сформировать ей основные принципы, благодаря которым инсталляция оформилась в отдельную, самодостаточную форму, а технологии рубежа XXI века дополнили и усложнили существующие наработки. Так, например, идея «работы-среды», основополагающая в феномене инсталляции, получает новое раскрытие в последнее десятилетие XX века: цифровое искусство, а также появившиеся очки дополненной реальности смешивали понятия настоящего и искусственного, стремясь на этот 56
раз погрузить зрителя не только в сам арт-объект, а также в его новое «измерение» – цифровую реальность. Разные художники взаимодействовали с этим концептом по-разному: кто-то поддавался «очарованию» цифрового мира, создавая виртуальные миры, кто-то, наоборот, резко критиковал «неестественность» в своих инсталляциях.
Таким образом, мы приходим к следующим выводам о феномене инсталляции и с точки зрения теоретической части: инсталляция является формой концептуального искусства, и, в первую очередь, становится искусством монументальным, стремясь занять все существующие ниши сенсорного восприятия зрителя. Это авангардная сложносоставная форма, имеющая много общего со скульптурой, но в отличие от нее она не декорирует пространство, а манипулирует им. Инсталляция – это работа-среда, погружающая зрителя в себя.
Так или иначе, новая эпоха виртуального искусства оказала особое влияние на мир инсталляции. Прежде всего, появление компьютеров и операционных систем позволило человечеству передавать огромные массивы информации на расстоянии, мгновенно ими делиться, систематизировать, хранить и т.д. Так, искусство XXI века стало искусством информации, прежде всего, а точнее – искусством преображения информации.
Это можно также назвать искусной манипуляцией информацией в художественных целях, что отсылает к теме манипуляции пространством в искусстве инсталляции. Так как инсталляция, как мы уже выяснили, является «всеядным» искусством, детищем концептуализма, она склонна использовать все имеющиеся ресурсы, в том числе неограниченный ресурс информационного общества. Элемент интерактивности, осторожно прощупываемый художниками в начале прошлого века, раскрывается полнее уже в эпоху всеобщей виртуальной вовлеченности. Как пишет в своем исследовании медиа-искусства М. Раш «Новые медиа в искусстве»: интерактивность – новая форма визуального опыта».
С точки зрения практической значимости мы приходим к выводу, что инсталляция становится одной из актуальных форм, отвечающей потребностям и особенностям современного состояния искусства, поскольку одна из первых прощупала такую востребованную линию развития. Используя наработки предыдущего века, такие как монументальность, концептуализм и вовлеченность зрителя, она сформировалась в передовой вид искусства, где зритель воспринимается как активный участник, а в ряде случаев и соавтор произведения, а не пассивный созерцатель.
Список литературы Инсталляция как форма монументального искусства
- Севостьянова Ю. Ю. Инсталляция: новая реальность // Студенческий научный форум 2012: IV Междунар. студ. науч. конф. URL: https://scienceforum.ru/2012/article/2012002495 (дата обращения: 23.03.2024).
- Монастырский А. "Лингомания" И. Макаревича // Макаревич И. Lingomania: каталог персональной выставки. М.: XL Галерея, 1996. С. 6.
- Орлова А. М. Тотальная инсталляция как усовершенствованный trompe-l'oeil // Известия Уральского федерального университета. Общественные науки. 2019. Т. 14, № 1 (185). С. 180-186. EDN: TINESG
- Формальный метод. Антология русского модернизма. Т. 3: Технологии / под ред. С. А. Ушакина. Екатеринбург; М.: Кабинетный ученый, 2016. 906 с.
- Бишоп К. Искусство инсталляции: пер. с англ. М.: Ад Марги-нем Пресс, 2020. 192 с.