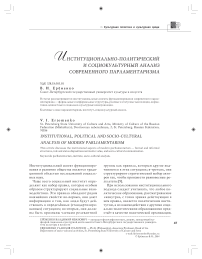Институционально-политический и социокультурный анализ современного парламентаризма
Автор: Ерменко Владимир Иванович
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Культурная политика и культурная среда
Статья в выпуске: 1 (57), 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются институциональные аспекты функционирования современного парламентаризма - формальные и неформальные структуры, ролевые и статусные диспозиции, нормативно-ценностные и социально-культурные коммуникации.
Парламентаризм, институт, социокультурный анализ
Короткий адрес: https://sciup.org/14489674
IDR: 14489674 | УДК: 328.18:303.01
Текст научной статьи Институционально-политический и социокультурный анализ современного парламентаризма
Институциональный аспект функционирования и развития общества является традиционной областью исследований социальных наук.
Чаще всего социальный институт определяют как набор правил, которые особым образом структурируют социальные взаимодействия. Эти правила обладают рядом важнейших свойств: во-первых, они дают информацию о том, как люди будут действовать в определённых (стандартизированных) ситуациях; во-вторых, они должны быть признаны членами релевантной группы как правила, которым другие подчиняются в этих ситуациях; в-третьих, они структурируют стратегический выбор акторов так, чтобы произвести равновесные результаты [9].
При использовании институционального подхода следует учитывать, что любое политическое образование, рассматриваемое «изнутри», с точки зрения действующих в нем правил, является политическим институтом, а во взаимодействии с другими социально-политическими образованиями предстаёт в качестве политической организации.
ЕРЁМЕНКО ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ — кандидат философских наук, доцент, заведующий ка федрой социально-культурной деятельности Санкт-Петербургского государственного универси- 47
тета культуры и искусств
ERJOMENKO VLADIMIR IVANOVICH — Ph.D. (Philosophy), Associate Professor, Head of the
Department of socio-cultural activities, St. Petersburg State University of Culture and Arts
Институциональная характеристика, в отличие от характеристики организационной, предполагает выявление формальной и неформальной структур, ролевых и статусных диспозиций, нормативно-ценностных и функциональных оснований деятельности института [5].
Рассмотрение парламентаризма, представляющего собой систему народного представительства, легальную форму участия населения в политическом процессе, с институциональной точки зрения позволяет охарактеризовать его как совокупность относительно стабильных форм социальнополитической практики, посредством которых обеспечивается устойчивость связей и отношений в рамках социальной организации общества. Парламентаризм, с одной стороны, позволяет населению реализовать своё право на участие в осуществлении государственной власти, а с другой — выступает в качестве инструментальной составляющей системы сдержек и противовесов, ограничивающей исполнительную власть с целью недопущения абсолютизации ею властных полномочий.
Сам парламент при этом выступает институциональным образованием, которое, с одной стороны, является главным условием существования парламентаризма, а с другой стороны, может быть рассмотрено как относительно автономное социально-политическое явление, имеющее самостоятельные функции в обществе и в государственном механизме.
Подобная неоднозначность позиции современного парламента связана с генезисом данного института. По сути, парламент является наследником института народного представительства, трансформация которого была обусловлена сложностью присущих современной цивилизации экономических, социальных, политических и других проблем. Институциональное оформление парламента потребовало конкретизации роли и места данного политического института в жизни государства и общества. Парламент, с нашей точки зрения, является уникальным институтом, занимающим пограничное положение между государством и социумом: с социумом парламент связан через институт политического участия; с государством — через институт власти.
Характеристика уникальной позиции парламента присутствует и в концепции известного теоретика неоинституционализма Д. Норта. Его концепция рассматривает парламент как инструмент удовлетворения потребностей «правителей» в получении налоговых доходов в обмен на согласие предоставлять определённые услуги группам избирателей. Парламент, с точки зрения Норта, облегчает обмен между сторонами политического процесса [7, с. 70—71].
В современной представительной демократии общественная система становится гораздо сложнее благодаря развитию многообразных групп интересов и сложной институциональной структуры, призванной облегчить обмен между разными группами интересов. Вместе с тем парламент как политический институт обеспечивает стабильность отношений господства — подчинения в обществе. Субъект власти должен быть уверен, что он способен, пользуясь выражением М. Вебера, «обеспечить проведение своей воли, даже вопреки сопротивлению». Объект властных отношений, в свою очередь, должен знать, что придётся подчиниться. Стабильность функционирования политических институтов обеспечивается наличием властных ресурсов у субъекта, чтобы он мог применять убеждение или принуждение в отношении тех, кто не склонен подчиняться, и, наоборот, — вознаграждение в отношении «послушных» объектов [4].
Члены парламента обладают установленными законом властными полномочиями по отношению к исполнительной власти. Эти полномочия, фактически, представляют собой политическую власть, которая осуществляется гражданским обществом в том случае, когда необходимо оказывать воз- действие на политику, проводимую правительством. Только легитимное постоянное представительство может обеспечить системную реализацию предпочтений, интересов, потребностей и требований в обществе, характеризующемся многонационально-стью, многоконфессиональностью, многопартийностью населения.
Таким образом, научное изучение парламента предполагает две перспективы его институциональной характеристики: во-первых, рассмотрение парламента как институт государства; во-вторых, представление его как социального института. Чёткую границу между этими понятиями провести невозможно, однако подобное теоретическое разведение, с нашей точки зрения, позволяет добиться более глубокого понимания сущности парламентаризма.
Первая из указанных перспектив связана с рассмотрением парламента как института государства (или политического института). В условиях неопределённости, связанной с изменчивостью социальной среды, решающую роль приобретает выбор политических институтов, и прежде всего — конституционной модели распределения властных полномочий по горизонтали. В этих условиях парламент как государственный институт во многом легитимирует существующий политический режим [8].
При этом между юридическим и фактическим статусом парламента может существовать разрыв. Конституционное законодательство большинства стран наделяет парламент такими качествами, как законодательное верховенство и независимость, рассматривая его в качестве носителя народного суверенитета. Однако на практике парламент часто низведён до положения вспомогательного органа в системе господства исполнительной власти (системе министериализма). Принимаемые им законы разрабатываются и вносятся главным образом правительством. Парламент из законодательного органа порой превращается в законоутверждающий. Депутатское боль- шинство, принимающее законы, в известной степени лишено политической самостоятельности, голосуя по указанию своих партийных лидеров.
Вторая перспектива институциональной характеристики парламента связана с его социокультурной спецификой. Парламент как социальный институт представляет собой комплекс установлений, правил, придающий устойчивость человеческой деятельности в сфере, связанной с политическим взаимодействием общества и государства. Парламентская деятельность осуществляется в континууме взаимодействия общественных и политических институтов и строится на основе межличностных взаимоотношений её субъектов.
Ролевые цели деятельности парламентария обусловлены тем обстоятельством, что по своей природе парламентарий — прежде всего представитель. В связи с этим П. Бурдье даже говорит о самоосвящении доверенных лиц, посредством которого происходит трансформация индивида в политика [3]. «Пограничность» парламента как социального института определяет две наиболее важные ролевые цели парламентариев: защита интересов различных социальных групп и общества в целом и защита интересов государства как социального института. Таким образом, структурирование политического пространства происходит благодаря принимаемым решениям и механизмам распределения материальных и символических ресурсов, но также благодаря признанным и применяемым формам артикуляции интересов и их представительству в политических институтах. В качестве основных показателей, свидетельствующих о дееспособности парламента как социального института, можно выделить следующие:
-
• адекватность прав, обязанностей, функций и способность парламентариев выполнить поставленные перед ними задачи, то есть качественно реализовать данные полномочия;
-
• наличие профессиональных знаний,
умений, навыков, необходимых и достаточных для квалифицированного исполнения служебных обязанностей;
-
• согласованность и синхронность действий различных структурных элементов аппарата, обеспечивающих работу с текстами законов и сопровождающими их документами в необходимом режиме, без нарушения установленных правил и норм;
-
• глубокий и всесторонний анализ деятельности всех участников законотворчества.
Функциональной особенностью представительного института власти является совокупность знаний, привычек, поведенческих стереотипов и социальных установок людей, взаимодействующих в парламенте. Эти существенные черты парламентаризма имеют не только социальные, но и культурные проявления: парламент выступает символической организацией, обладающей определённым набором характеристик, позволяющих рассмотреть его политико-культурный «срез».
Как и любое социально значимое явление, институционально оформленное в обществе, парламентаризм опирается в своём развитии на определённую совокупность ценностных оснований (демократизм, доверие, ответственность, патриотизм и др.). Их совокупность образует самовоспроизводящуюся систему диалога власти и общества, форму социального взаимодействия, которая способствует преодолению конфликта целей, норм, интересов, ценностей различных социальных субъектов, достижению ими компромиссов.
В отечественной социальной науке одна из наиболее подробно разработанных концепций диалога принадлежит М. М. Бахтину [2]. Каждое действие — индивидуальное или групповое, с его точки зрения, может быть рассмотрено как «высказывание»; каждое высказывание в определённом смысле является ответом на предшествовавшие. Парламентаризм как диалог власти и населения становится возможным благодаря тому, что, хотя каждый индивид воспринима- ет действительность по-своему, существует «интерсубъективный мир культуры»:мыжи-вём среди других людей, и повседневность — это смысловой универсум, совокупность значений, которые мы должны интерпретировать, живя в обществе [12].
Отметим, что любое диалоговое общение представляет собой социальный процесс, то есть взаимодействие, в основе которого лежат различные мотивы, цели и задачи его участников. Достаточно подробный теоретический анализ явления взаимодействия был осуществлён русским философом и социологом П. А. Сорокиным. По его мнению, «взаимодействие людей по своей природе есть, прежде всего, взаимодействие психическое — обмен чувствами, идеями, волевыми импульсами» [10, с. 16]. Подобный обмен (или смысловая коммуникация) предопределяет динамику развития парламентаризма и его восприятие в обществе. Успешность диалога связана с необходимостью соответствия ролевым и нормативным ожиданиям, которое используется в качестве контекстуальных рамок его участниками и является предпосылкой взаимопонимания между ними.
Тенденции к формированию общества потребления, наблюдаемые в 2000-е годы в России, существенно снизили потребность граждан в публичном политическом диалоге с властью. Распространение политического конформизма указывает на растущее безразличие большинства населения к самому присутствию на поле политического взаимодействия. Интересы личности, переместившиеся в частный сектор, провоцируют постепенное «выключение» людей из политического диалога с властью, ставя под вопрос возможность формирования в России диалоговой модели парламентаризма.
В современном быстроменяющемся мире диалоговая модель парламентаризма трансформируется в коммуникационную. Парламентская коммуникация представляет собой определённую последовательность коммуникативных действий — в том смысле, который вкладывает в данное понятие Ю. Хабер- мас, основатель одноимённой теории: коммуникативное действие представляет собой действие, связанное с интересами других и ориентированное на них. По Хабермасу, оно возникает в том случае, когда люди взаимодействуют друг с другом, и, как следствие столкновений интересов, появляются конфликты. Преодоление конфликтов достигается с помощью аргументации, которая должна быть интерсубъективно воспроизводимой [11]. Индивидуальная или групповая политическая позиция определяется не только институциональной или ролевой принадлежностью, но и когнитивно-оценочными, коммуникативными кодами, необходимыми для понимания смысла политических действий. Рассогласование информационных позиций общества и парламентариев ставит под вопрос возможность возникновения смыслозначимого диалога и позитивного решения насущных национальных задач. Частным примером такого социально значимого вопроса, по которому в российском обществе отсутствует диалог между социумом и его политическими представителями, является текущая ситуация вокруг лекарственного обеспечения россиян [1].
С нашей точки зрения, стагнация процесса коммуникации между парламентом и обществом производит нечто большее, чем просто
«кризис доверия», а именно — нарушение процесса воспроизводства базовых ценностей социального развития и социальную дезинтеграцию. Дефицит осмысленных контактов между гражданами и властью зачастую обусловлен рассогласованием используемых способов символизации информационных продуктов. В связи с этим стоит упомянуть концепцию немецкого социолога Н. Лумана о невероятности коммуникации [6], согласно которой власть как социокультурный институт современного общества несёт ответственность за непрерывность коммуникативного процесса между парламентом и социумом и, следовательно, за воспроизводство базовых ценностей социального развития.
Таким образом, парламентаризм с институционально-политической и социокультурной точек зрения представляет собой социальное и символическое поле непрерывного воспроизводства основных ценностей социально-политической жизни на основе реализации публичного парламентского дискурса и посредством взаимодействия власти и общества в процессах парламентской коммуникации. Воплощение в парламентаризме национальной идеи и её успешная реализация являются в настоящее время одной из главных задач развития российского парламентаризма.
Список литературы Институционально-политический и социокультурный анализ современного парламентаризма
- Балашов А. И. Лекарственное страхование как способ обеспечения устойчивого развития российской фармацевтической отрасли//Экономика здравоохранения. 2011. №. 156. С. 28-35.
- Бахтин М. М. Антрополингвистика. Москва: Лабиринт, 2010. 255 с.
- Бурдье П. Социология политики. Москва: Socio-Logos, 1993. 333 с.
- Вебер М. Избранное. Образ общества. Москва: Юристь, 1994. 702 с.
- Гидденс Э. Устроение общества. Москва: Академический проект, 2003. 525 с.
- Луман Н. Власть. Пер. с нем. А.Ю. Антоновский. Москва: Праксис, 2001. 249 с.
- Норт Д. Понимание процесса экономических изменений. Москва: ГУ ВШЭ, 2010. 253 с.
- Санина А. Г. Государственная идентичность: издержки виртуализации//Социологические исследования. 2012. № 3. С. 77-87.
- Ситнова И. В. Институциональные изменения в современной России: активистско-деятельностный подход: автореф. на соиск. уч. ст. канд. социол. наук. Москва: ИС РАН, 2006. 22 с.
- Сорокин П. А. Система социологии: в 2 т. Москва: Наука 1993. [Т. 2]: Социальная аналитика: учение о строении сложных социальных агрегатов. 543 с.
- Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность: Московские лекции и интервью. Москва: Ками, 1995. 244 с.
- Шюц А. Структура повседневного мышления//Социологические исследования. 1988. № 2. С. 129-137.