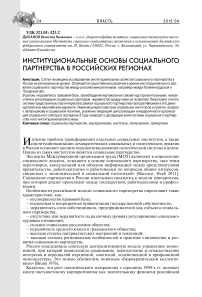Институциональные основы социального партнерства в российских регионах
Автор: Дыханов Вячеслав Яковлевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Обустройство России: вызовы и риски
Статья в выпуске: 4, 2015 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию институциональных аспектов социального партнерства в России на региональном уровне. Отмечаются существенные различия в уровне институционального развития социального партнерства между российскими регионами, например между Калининградской и Псковской обл. В целом, неразвитость правовой базы, преобладание вертикальных связей над горизонтальными, низкая степень консолидации социальных партнеров, неравенство между ними не позволяют безусловно считать систему представительства интересов в рамках социального партнерства корпоративизмом в его демократическом европейском варианте. Реминисценция советских социальных институтов и практик, возврат к патернализму в социальной политике, усиление тенденций централизации и иерархичности организаций социального сектора в последние 3 года приводят к деградации всей системы социального партнерства и его институциональной основы.
Социальное партнерство, корпоративизм, институты, патернализм, трипартизм
Короткий адрес: https://sciup.org/170167898
IDR: 170167898 | УДК: 321.01:
Текст научной статьи Институциональные основы социального партнерства в российских регионах
И зучение проблем трансформации отдельных социальных институтов, а также институционализации демократических социальных и политических практик в России позволяет оценить перспективы развития политической системы в целом. Одним из таких институтов является социальное партнерство.
Эксперты Международной организации труда (МОТ) включают в определение социального диалога, лежащего в основе социального партнерства, «все типы переговоров, консультаций или обменов информацией между представителями правительства, работодателями и работниками по вопросам общих интересов, связанных с экономической и социальной политикой» [Baccaro, Heeb 2011]. Социальное партнерство в России изначально сводилось к модели трипартизма, при которой диалог происходит между государством, работодателями и профсоюзами.
Особенности российской модели социального партнерства определяют такие характеристики, как:
-
– несовершенство правовой базы;
-
– поспешная и непрозрачная приватизация государственной собственности;
-
– неразвитость слоя собственников, предпринимателей как субъекта социального партнерства;
-
– отсутствие или неразвитость на различных уровнях регулирования социальнотрудовых отношений;
-
– сильное социальное расслоение общества;
-
– неразвитость среднего класса и гражданского общества;
-
– высокая степень патерналистских настроений и тенденций;
-
– высокая степень региональных особенностей в практике становления и развития социального партнерства.
Россия унаследовала советскую централизованную модель управления экономикой, при которой происходило сращивание, переплетение и отождествление интересов и персоналий партийной, советской, хозяйственной и профсоюзной номенклатуры. Это можно обозначить понятием «бюрократический коллективизм» [Bruno 1976].
Казалось, что рост политического плюрализма с середины 1990-х гг. положит конец постсоветскому корпоративизму как значительному феномену российской действительности. Однако быстрые темпы разгосударствления собственности и появление новых крупных собственников, так называемых олигархов, при сохранившихся традициях затрудняли становление социальных институтов, действующих по выработанным международным сообществом нормам и правилам социального взаимодействия.
В политическом отношении этот процесс можно охарактеризовать как инсталляцию социальной практики, или попытку встроить в российское общество готовые, выработанные в других социально-политических условиях модели. Подобная социальная инженерия присуща многим посткоммунистическим странам Центральной и Восточной Европы, которые активно заимствовали западные социальные практики. Однако очевидно, что результаты таких заимствований, затрагивающих институциональную структуру общества, оказались разными для России и ее западных соседей.
С середины 1990-х гг. формируется правовая база работы институтов социального партнерства. Среди законодательных актов ключевое значение приобрели федеральные законы «О порядке разрешения коллективно-трудовых споров» (1995) 1 , «О коллективных договорах и соглашениях» (1995) 2 , «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (1996) 3 , а также указ Президента РФ «О Российской трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений» (1997) 4 . И только в 1999 г. прокремлевские депутаты сумели провести закон о создании этого главного института трипартизма в России 5 .
В качестве основной цели социального партнерства была декларирована «совместная разработка, принятие и реализация социально-экономической и трудовой политики, основанной на сбалансированности интересов общества, наемных работников и работодателей» [Комаровский 1999: 81]. На федеральном уровне социальное партнерство на рынке труда фактически сводится к системе трехсторонних переговоров по вопросам коллективно-договорного регулирования социально-трудовых проблем. Весь 2-й раздел Трудового кодекса «Социальное партнерство в сфере труда» (ст. 23–55) целиком посвящен системе трехстороннего социального партнерства. Кодекс дает довольно узкое определение социального партнерства: «Социальное партнерство в сфере труда… – система взаимоотношений между работниками (представителями работников), работодателями (представителями работодателей), органами государственной власти, органами местного самоуправления, направленная на обеспечение согласования интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений». По-видимому, дискуссии о социальном партнерстве в России того времени с огромным разнообразием мнений и неясностью моделей развития страны побудили законодателей дать такое ограниченное и узкое толкование социального партнерства.
Однако большинство норм, регулирующих социальное партнерство, носят декларативный характер, допускают различные толкования и оставляют большие возможности для произвольного усмотрения при принятии решений. Именно этим объясняется огромное разнообразие институциональных основ и правоприменительной практики социального партнерства в социально-трудовой сфере на региональном уровне.
При этом именно региональные рынки труда играют ключевую роль в социальнотрудовой сфере в России, а ответственность за реализацию политики на рынке труда почти полностью возлагается на региональные органы власти. Необходимо отметить, что на общем фоне централизации политической власти социальная политика и полномочия в данной сфере, наоборот, подверглись децентрализации. Большинство федеральных и муниципальных полномочий в сфере социальной политики были делегированы (с частью налоговых доходов) на региональный уровень с 1 января 2005 г., когда вступил в силу федеральный закон с невразумительным и неудобочитаемым названием из 55 слов1. В названии закона не упоминается слово «социальный», хотя весь текст закона говорит о реформировании социальной политики и распределении полномочий в социальной сфере. Российским гражданам он запомнился «монетизацией льгот».
Следует учитывать, что в России фактически не существует национальный, общегосударственный рынок труда по таким причинам, как:
-
– большие географические размеры страны;
-
– неразвитая транспортная инфраструктура между регионами;
-
– дороговизна и недоступность жилья для большинства российского населения;
-
– ограничения, связанные с регистрацией по месту жительства;
-
– низкая мобильность рабочей силы как социально-культурная особенность россиян.
Федеральная служба по обеспечению занятости населения РФ была с 1 января 2007 г. расформирована и передана вместе со своими полномочиями региональным органам власти. После принятия федерального закона о трехсторонней комиссии в 1999 г. такие же трехсторонние комиссии начали создаваться на региональном уровне.
В самом западном российском регионе – Калининградской обл., граничащей с Польшей, трехсторонняя комиссия была создана в 2002 г. 2 В то же время в другом северо-западном российском регионе – Псковской обл., граничащей с Эстонией, Латвией и Беларусью, трехстороннюю комиссию удалось создать только в 2010 г., несмотря на политику федерального центра и федеральные законы.
Такая разность между двумя географически близкими регионами, возможно, объясняется более высоким уровнем экономического развития Калининградской обл., более развитой деловой культурой, более высоким уровнем консолидации бизнеса и меньшей зависимостью бизнеса от политической власти [Клемешев 2005: 68]. Немаловажным фактором является социальное и культурное влияние Европы на самый западный российский регион. Калининградцы гораздо чаще других россиян посещают Европейский союз, значительное число жителей региона многократно бывали в европейских странах и никогда – в «большой» России [Vinokurov 2007: 127].
В Калининградской областной трехсторонней комиссии представлены Министерство социальной политики и труда, Калининградская областная федерация профсоюзов и самые крупные региональные бизнес-ассоциации.
Основным направлением деятельности комиссии является регулирование заработной платы по отраслям (обсуждение и заключение так называемых тарифных соглашений) и заключение коллективных договоров с работодателями, в чем заинтересованы профсоюзы. Однако большинство заключенных договоров на практике не исполняются. Отдельные предприятия не считают необходимым их соблюдать, т.к. законодательство, которое обязывало бы членов бизнес-ассоциации придерживаться договоров, заключенных представителями ассоциации, не существует.
Только крупные предприятия их соблюдают, т.к. в большей степени зависимы от государственной власти и профсоюзов [Dykhanov 2008: 187].
Как и во всей России, институциональная слабость трехстороннего партнерства в самом западном российском регионе заключается в неразвитости бизнеса, его низкой договороспособности, слабости профсоюзов, отсутствии реальной политической конкуренции, доминировании вертикальных иерархических связей в ущерб горизонтальным.
Однако эти недостатки не означают слабости корпоративизма в широком смысле этого слова. Следует учитывать, что корпоративизм проявляется не только в форме социального партнерства, но и в виде деятельности лоббистских групп, кулуарных договоренностей между крупными финансово-промышленными группировками и чиновниками.
Однако говорить о том, что современный российский корпоративизм – аналог «цивилизованного» либерального корпоративизма, существующего в тех или иных формах в ряде других стран Запада и более или менее органично вписывающегося в систему взаимодействия гражданского общества и государства, пока нет никаких оснований.
Более того, после федеральных выборов 2011–2012 гг. начала явственно проявляться реминисценция советских социальных институтов, в т.ч. усиление патернализма и централизованных иерархических организационных структур в социальном секторе. Возврат к патернализму приводит к постепенной деградации институтов социального партнерства, а на смену социальному диалогу приходит «социальный монолог» государства.
Список литературы Институциональные основы социального партнерства в российских регионах
- Клемешев А.П. 2005. Российский эксклав: преодоление конфликтогенности. СПб.: Изд-во СПбГУ. 254 с
- Комаровский В.В. 1999. Система социального партнерства в регионе Московской области. -Социально-трудовые исследования. ИМО РАН. Вып. 13. С. 78-102
- Baccaro L., Heeb S. 2011. Social dialogue during the financial and economic crisis. Results from the ILO/World Bank Inventory using a Boolean analysis on 44 countries. -Employment Working Paper No. 102. International Labour Organization (ILO). Доступ: http://www.ilo.org/employment/Whatwedo/Publications/working-papers/WCMS_167806/lang-en/index.htm (проверено 22.02.2015)
- Bruno R. 1976. L’URSS: Collectivisme Bureaucratique (La Bureaucratisation du Monde, première partie). Paris: Éditions Champ Libre, 282 p
- Dykhanov V. 2008. European Principles in a Russian context: the Transformation of Social Policy. -Adapting to European Integration? Kaliningrad, Russia and the European Union (ed. By S. Gänzle, G. Müntel, E. Vinokurov). Manchester; N.Y.: Manchester University Press. P. 183-194
- Vinokurov E. 2007. Kaliningrad: Enclaves and Economic Integration. Brussels: Center for European Policy Studies. 160 p
- Федеральный закон от 23.11.1995 N 175-ФЗ «О порядке разрешения коллективных трудовых спорах». -Российская газета. 1995. 27 нояб. С. 2.
- Федеральный закон от 24.11.1995 N 176-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ «О коллективных договорах и соглашениях». -Российская газета. 1995. 27 нояб. С. 3.
- Федеральный закон от 12.01.1996 N 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». -Российская газета. 1996. 17 янв. С. 2.
- Указ Президента РФ от 21.01.1997 N 29 «О Российской трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений». 1997. -СЗ РФ. № 4. Ст. 521.
- Федеральный закон от 01.05.1999 N 92-ФЗ «О Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений». -Российская газета. 1999. 12 мая. С. 2.
- Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов “О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"” и “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”». -Российская газета. 2004. 23 авг. С. 2-4.
- Закон Калининградской области от 04.07.2002 N 160 «О деятельности Калининградской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений».-Калининградская правда. 2002. 11 июля.