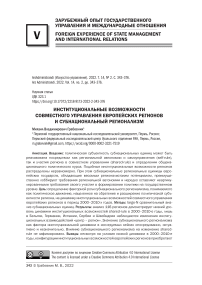Институциональные возможности совместного управления европейских регионов и субнациональный регионализм
Автор: Грабевник М.В.
Журнал: Ars Administrandi. Искусство управления @ars-administrandi
Рубрика: Зарубежный опыт государственного управления и международные отношения
Статья в выпуске: 2 т.14, 2022 года.
Бесплатный доступ
Введение: политическая субъектность субнациональных единиц может быть реализована посредством как региональной автономии и самоуправления (self-rule), так и участия региона в совместном управлении (shared-rule) и определении общенационального политического курса. Подобные институциональные возможности регионов распределены неравномерно. При этом субнациональные региональные единицы европейских государств, обладающие весомым регионалистским потенциалом, преимущественно лоббируют требования региональной автономии и нередко оставляют неартикулированными требования своего участия в формировании политики на государственном уровне.
Субнациональный регионализм, многоуровневое управление, совместное управление, европейский регионализм, регионалистика, европа
Короткий адрес: https://sciup.org/147246726
IDR: 147246726 | УДК: 323.1 | DOI: 10.17072/2218-9173-2022-2-343-376
Текст научной статьи Институциональные возможности совместного управления европейских регионов и субнациональный регионализм
Политическое развитие современных государств Европы сопровождается динамичными и разнонаправленными процессами регионализации и наднациональной интеграции: наряду с поступательным и планомерным объединением европейских государств в наднациональную структуру происходит постепенное размывание их национального суверенитета. Два процесса – объединение национальных государств и фрагментация их территорий – стимулируют манифестацию субнационального регионализма.
Современная Европа находится в авангарде регионалистских процессов, воспроизводя механизмы ответа на подобные вызовы и тенденции. С одной стороны, многие европейские государства идут по пути децентрализации властных полномочий внутри своих границ (Tatham, 2014; Marks et al., 2008). С другой стороны, регулярно имплементируются практики многоуровневого управления (mutli-level governance), призванные служить согласованию интересов всех административных уровней, от локального до супранационального. Такой системе многоуровневого управления свойственны децентрализация, плюрализм и дисперсность множества акторов, которые взаимодействуют между собой на переплетающихся уровнях власти. В подобном контексте регионы европейских государств в 1960–2000-е годы получают и развивают широкий спектр институциональных возможностей участия в политическом процессе. Институциональные конфигурации включают возможности регионов как воспроизводить собственную региональную политическую субъектность и автономию (self-rule), так и участвовать в общенациональном политическом процессе, или совместном управлении (shared-rule).
Вопрос о соотношении субнационального регионализма и различных конфигураций многоуровневой политики не получил еще широкого освещения, и данная статья вносит вклад в его рассмотрение. Регионализм понимается как субнациональный регионализм, регионалистское движение, которое стре- мится к политическому конституированию региона, обретению им политической субъектности и включению его в политический процесс (Панов, 2020, с. 105). Категории самоуправления регионов (self-rule) и совместного управления (shared-rule) используются в исследовательской логике Л. Хуг, Г. Маркса и А. Шэкеля (Hooghe et al., 2010; Hooghe et al., 2016), как, собственно, и понятие многоуровневого управления. Применяемая в рамках статьи англоязычная терминология (self-rule, shared-rule, multi-level governance) семантически и концептуально совпадает с русскоязычной терминологией (самоуправление, совместное управление, многоуровневое управление). Совместное управление (shared-rule), которое составляет основной исследовательский объект, является частью многоуровневого управления (multi-level governance).
МЕТОДОЛОГИЯ (ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ) ИССЛЕДОВАНИЯ
Факторы динамики институтов совместного управления: теоретические аспекты
Установление и развитие механизмов совместного управления (shared-rule) в многосоставных политиях часто объясняется двумя типами факторов: институциональными стратегиями национальных правительственных акторов по расширению многостороннего диалога центра и регионов, а также проявлением регионалистской политической субъектности субнациональных единиц государства, лоббирующих расширение собственной вовлеченности в общенациональный политический процесс.
Первая традиция, институциональная, берет свое начало в исследованиях институциональных конфигураций федеративных / конфедеративных отношений. Многоуровневые государства, по мнению Д. Элазара, административно закрепляют баланс между самоуправлением регионов (self-rule) и совместным управлением (shared-rule) (Elazar, 1993, p. 193–194). Этот федералистский принцип означает обратно пропорциональную зависимость указанных переменных – чем шире объем компетенций самоуправления, тем уже объем совместного управления (и наоборот). Вместе с тем такой баланс, согласно Д. Элазару, является следствием целенаправленной стратегии общенационального центра по формированию устойчивой конфигурации политических отношений многосоставной политии, то есть конструируется преимущественно сверху-вниз (Elazar, 1993, p. 193–194).
Продолжая традицию, М. Берджесс характеризует совместное управление как механизм поиска институционального баланса центр-региональных отношений, который дает регионам институциональные возможности участвовать в процессах принятия решений в общенациональном политическом процессе (Burgess, 2006, p. 296). Поддерживает этот тезис и Р. Уоттс, для которого совместное управление представляет собой совместное административное и политическое партнерство посредством общих институтов (Watts, 2008, p. 18). Институциональные проявления совместного управления можно найти в бикамерализме, межправительственных взаимодействиях и практиках, форумах, консультативных органах, органах формальных и неформаль- ных межрегиональных интеракций, а также в институциональных правах регионов в отношении оспаривания затрагивающих их интересы политических решений (Lublin, 2014, p. 36). Совместное управление, таким образом, концептуализируется здесь преимущественно в конституционных и институциональных терминах, а установление таких институциональных механизмов объясняется, прежде всего, стратегией национальных правительственных центров (а не субнациональных региональных единиц) для решения специального спектра вопросов (Bolleyer, 2006; McEwen et al., 2012). Подобная аргументация также прослеживается в исследованиях, посвященных включению субнациональных единиц в процесс принятия политико-управленческих решений на супранациональном уровне в рамках Европейского Союза (Tatham, 2011). Соответственно, на степень формального самоуправления и совместного управления в многоуровневой системе оказывает влияние то, каким именно образом распределяются полномочия между центром и регионами.
Вместе с тем очевидно, что региональная политическая субъектность (проявляющаяся в институтах как self-rule, так и shared-rule) может быть обусловлена не только формальными стратегиями политических акторов, но и неформальными факторами, включая этнолингвистическое разнообразие внутри государств, социоэкономические различия регионов, партийнополитические составы (региональных и национального) правительств. Вторая традиция в объяснении становления и развития институциональных возможностей совместного управления основывается на аргументации, согласно которой основным фактором выступает регионалистская субъектность самих административно-территориальных единиц (McEwen and Petersohn, 2015).
Так, по мнению М. Китинга, именно регионализм является одним из ключевых факторов институционализации механизмов самоуправления и совместного управления (Keating, 1998). Наиболее заметную роль в рамках данного процесса играют регионалистские партии, которые стали заметными политическими акторами в странах Европы (Hepburn, 2009). Напрямую субнациональный регионализм и институционализацию совместного управления как на национальном, так и на европейском уровне отмечают все чаще в 2010-2020-е годы (Панов, 2021; Loughlin, 2021; Schakel, 2020; Shair-Rosenfield, 2021).
Более того, некоторые именитые авторы указывают на поступательную логику регионализма в деле расширения спектра институциональных возможностей: политическая субъектность региона – самоуправление – совместное управление (McEwen and Petersohn, 2015; Shair-Rosenfield, 2021). Каковы бы ни были институциональные масштабы самоуправления, на определенном этапе региональная автономия сталкивается c общенациональным центром и противостоит ему, а потому требуются механизмы для регулирования подобных межправительственных отношений (Agranoff, 2004; Swenden, 2013). Институционализация совместного управления, таким образом, представляется как логическое продолжение институционализации самоуправления региона, что, в свою очередь, является следствием регионализма.
Подобная методологическая традиция не отстаивает институциональную необходимость баланса self-rule / shared-rule, как это наблюдается в пер- вой, институциональной, традиции. Наоборот, предполагается, что совместное управление напрямую коррелирует с уровнем самоуправления региона. Н. МакИвен и А. Шэкель успешно проверили гипотезу о том, что высокий уровень самоуправления положительно коррелирует с высоким уровнем совместного управления (McEwen and Schakel, 2017, p. 13–14). Вместе с тем, согласно результатам их исследования, следует, что, хотя более высокий уровень самоуправления действительно является положительно связанным с уровнем совместного управления, это происходит только тогда, когда shared-rule осуществляется на многосторонней основе, что предполагает необходимость координации между центральными и региональными правительствами. Этот тезис связывает обе традиции в объяснении факторов институционализации shared-rule – процесс этот является двунаправленным, как со стороны регионов (регионализм), так и со стороны национального центра (конституционализм).
Как отмечает П. В. Панов, несмотря на довольно внушительный спектр исследований по отдельным сюжетам, «взаимосвязь регионализма и многоуровневой политики нуждается в более систематическом изучении» (Панов, 2021, с. 112). Настоящее исследование нацелено на проверку гипотезы о влиянии регионализма как политического движения субнациональных единиц по поводу расширения автономии на динамику институциональных возможностей совместного управления (shared-rule). Статья сфокусирована на анализе динамики институциональных возможностей участия европейских регионов в общенациональном политическом процессе и в совместном многоуровневом управлении в период 2000–2010-х годов. Проверяется гипотеза о том, что вариативность и динамика институционального дизайна многоуровневого взаимодействия в границах национального государства непосредственно связаны с характеристиками субнационального регионализма. Исследовательский вопрос, таким образом, состоит в следующем – наблюдается ли значимость субнационального регионализма как фактора динамики институциональных возможностей совместного управления европейских регионов в период 2000-2010-х годов. Постановка вопроса обусловлена недостаточным количеством качественных системных исследований связи субнационального регионализма и институциональной динамики совместного управления. Помимо количественного анализа европейских субнациональных единиц (N=116) в качестве исследовательского метода также представлен качественный case-study (в отношении регионов, демонстрирующих динамику институтов shared-rule в 2000-2010-е годы).
Данные и методы
В политической науке существует довольно широкий спектр техник оценки степени регионализации (децентрализации) как национального государства (nation-state), так и его субнациональных региональных компонентов. Значимость подобных индексов (Lijphart, 1999; Lane and Ersson, 1999; Arzaghi and Henderson, 2005; Brancati, 2006; Fabre, 2009) состоит в том, что они акцентируют исследовательское внимание на степени региональной и локальной автономии (self-rule). Вместе с тем, однако, они оставляют за рамками рас- смотрения степень вовлеченности регионального и локального уровней в процесс принятия решений на общенациональном уровне (shared-rule). Политическая субъектность региона предполагает не только региональную автономию (то есть институциональную возможность реализовывать решения внутри региона в рамках своего статуса), но и способность к участию в принятии решений относительно своего статуса в рамках общенационального политического процесса (Панов, 2020, с. 105). Модель power-sharing позволяет регионам участвовать в совместном принятии решений либо через центральную исполнительную власть (правительственное разделение власти), либо через предоставление определенным территориально сконцентрированным группам региональной автономии (территориальное разделение власти). Такая автономия согласуется с устойчивым политическим трендом в направлении институционализации системы многоуровневого управления.
Наиболее полную и операциональную систему оценки региональной автономии представили Л. Хуг, Г. Маркс, А. Шэкель, К. Шаир-Розенфилд (Hooghe et al., 2016; Shair-Rosenfield et al., 2021). Их масштабный совместный исследовательский проект Regional Authority Index методологически позволяет измерить властные полномочия регионов: и те, которыми региональные правительства располагают в отношении региона как социальной общности в рамках определенной территории (self-rule), и те, которые региональные правительства имеют в общенациональном масштабе (shared-rule).
Операциональная система оценки региональной автономии, первый вариант которой был подготовлен Л. Хуг и Г. Марксом еще в 2001 году, представляет собой детально проработанную попытку сконструировать количественный инструмент такого рода. Сегодня Regional Authority Index (RAI) является наиболее подробной из существующих в политической науке систем оценки региональной автономии. В таблице 1 приведены показатели, включаемые в RAI.
Таблица 1 / Table 1
Параметры Индекса региональной власти / Regional Authority Index Indicators
|
№ |
Переменная |
Описание |
Шкала |
|
1 |
Self-rule (Самоуправление) |
||
|
1.1. |
Institutional Depth |
Степень институциональной автономии регионального правительства |
0–3 |
|
1.2. |
Policy Autonomy |
Спектр политики в компетенции регионального правительства |
0–4 |
|
1.3. |
Fiscal Autonomy |
Степень налоговой автономии регионального правительства |
0–4 |
|
1.4. |
Borrowing Autonomy |
Степень автономии регионального правительства в отношении бюджетирования и кредитования |
0–3 |
|
1.5. |
Representation |
Наличие (и степень автономии) региональных органов власти |
0–4 |
|
№ |
Переменная |
Описание |
Шкала |
|
2 |
Shared-rule (Совместное управление) |
||
|
2.1. |
Law Making |
Степень участия регионального правительства в общенациональном законодательном процессе |
0–2 |
|
2.2. |
Executive Control |
Степень участия регионального правительства в формировании общенационального политического курса |
0–2 |
|
2.3. |
Fiscal Control |
Степень участия регионального правительства в вопросе перераспределения налогов |
0–2 |
|
2.4. |
Borrowing Control |
Степень участия регионального правительства в вопросе бюджетирования, кредитования и трансфертов |
0–2 |
|
2.5. |
Constitutional Reform |
Степень участия регионального правительства в конституционных изменениях |
0–4 |
Источник: составлено автором по (Hooghe et al., 2016; Shair-Rosenfield et al., 2021).
Спектр переменных, которые включает RAI, позволяет не только оценить степень автономии регионального правительства в рамках субнационального образования (self-rule), но и установить набор институциональных возможностей, которыми обладает регион в отношении общенационального политического процесса. Вариативность институционального дизайна shared-rule может наблюдаться и между национальными государствами, и между субрегиональными компонентами внутри общенационального объединения.
Анализ динамики институциональных возможностей совместного управления был основан на пяти параметрах (табл. 1): 1) законотворчество (Law Making); 2) контроль исполнительной власти (Executive Control); 3) контроль фискальной политики (Fiscal Control); 4) контроль бюджетной политики и трансфертов (Borrowing Control); 5) конституционное реформирование (Constitutional Reform).
Параметр «Законотворчество» (Law Making) фиксирует степень, в которой регион может влиять на общенациональный законотворческий процесс по нескольким индикаторам: представленность региона в национальном парламенте; наличие возможности у региона выбирать / назначать представителей в национальный парламент; наличие регионального большинства в национальном парламенте; наличие широких законотворческих полномочий национального парламента при региональном большинстве; консультационное право региона в отношении касающегося его законодательства; право вето региона в отношении касающегося его законодательства.
Параметр «Контроль исполнительной власти» (Executive Control) фиксирует степень, в которой региональное правительство совместно с национальным определяет общегосударственную исполнительную политику посредством совместных встреч и институциональных практик: 0 – нет регулярных межправительственных встреч; 1 – есть регулярные межправительственные встречи, но не подкрепленные правовым статусом и юридическим основа-
V. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ нием; 2 – есть регулярные межправительственные встречи, подкрепленные правовым статусом и юридическим основанием.
Параметр «Контроль фискальной политики» (Fiscal Control) фиксирует степень, в которой регион участвует в совместном распределении национальных налоговых поступлений: 0 – регион не участвует в принятии решений по вопросам распределения национальных налоговых поступлений; 1 – регион участвует в переговорах по поводу распределения налоговых поступлений, но не имеет решающего права голоса и / или права вето; 2 – регион участвует в переговорах и процессе принятия решений по поводу распределения налоговых поступлений, а также имеет право вето.
Параметр «Контроль бюджетной политики и трансфертов» (Borrowing Control) фиксирует степень участия регионального правительства в вопросе бюджетирования, кредитования и трансфертов: 0 – регион не участвует в консультациях по вопросам бюджетирования, кредитования и трансфертов; 1 – регион участвует в переговорах по вопросам бюджетирования, кредитования и трансфертов, но не имеет решающего права и/или права вето; 2 – регион участвует в переговорах и процессе принятия решений по вопросам бюджетирования, кредитования и трансфертов, а также имеет право вето.
Параметр «Конституционное реформирование» (Constitutional Reform) фиксирует степень участия регионального правительства в конституционных изменениях: 0 – общенациональное правительство (в том числе посредством общенационального референдума) может в одностороннем порядке реформировать конституционный строй; 1 – национальный парламент, основанный на региональном представительстве, может предложить или отложить конституционную реформу, поднять вопрос о принятии решения в другой палате, потребовать повторного голосования в другой палате или потребовать проведения общенационального референдума; 2 – регион в праве предложить или отложить конституционную реформу, поднимать вопрос о принятии решения в другой палате, требовать повторного голосования в другой палате или требовать общенационального референдума; 3 – национальный парламент, основанный на региональном представительстве, может наложить вето на конституционные изменения; или конституционные изменения требуют проведения референдума, основанного на принципе равного регионального представительства; 4 – регион может наложить вето на конституционные изменения.
Таким образом, в качестве основного исследовательского метода использован качественный сравнительный анализ субнациональных единиц с применением индексной методики. Выборка составляет 116 субнациональных региональных единиц европейских государств, в которых зафиксированы институты совместного управлениям. В качестве эмпирической базы использованы материалы базы данных «Субнациональный регионализм и многоуровневая политика», разработанной исследовательским коллективом под научным руководством российского политолога П. В. Панова, часть которой (в отношении межуровневых взаимодействий) базируется на параметрах Reginal Authority Index (Панов, 2021). В ходе исследования, в том числе при анализе субнационального регионализма в кейсах, демонстрирующих институциональную динамику совместного управления, мы обращаемся к нормативно-правовой и конституционной документации, манифестам и программным документам регионалистских партий, материалам межправительственных (межуровневых) переговоров, стенограммам заседаний.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ
Динамика институционального дизайна многоуровневых взаимодействий
В отличие от институциональных возможностей региональной автономии внутри границ (политических, административных, территориальных) субнациональных единиц, которые в разной степени встроены в региональную политическую систему практически всех европейских регионов, институциональный дизайн shared-rule имплементирован не столь широко. Институциональные механизмы участия субнациональных образований в общенациональном политическом процессе (или, собственно, возможности многоуровневой политики) есть только в 116 из 427 европейских регионов, что составляет лишь 27,1 % от генеральной совокупности кейсов субнациональных единиц европейских государств (рис. 1). Подобные институциональные возможности межуровневых взаимодействий характерны для политических систем западноевропейских национальных государств (Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Нидерланды, Швейцария) и государств южной Европы (Испания, Италия, Португалия).
Динамика институциональных возможностей совместного управления европейских регионов в 2000–2010-е годы представлена в таблице 2. В случае Бельгии, Испании, Сербии данные зафиксированы с учетом региональных вариаций; в случае Германии и Швейцарии регионального варьирования в динамике институциональных возможностей совместного многоуровневого управления не наблюдается.
Таблица 2 / Table 2
Динамика институциональных возможностей совместного управления европейских регионов в 2000–2010-е годы / Shared-rule institutional capability of European regions in 2000–2010s
|
Regions |
LM |
EC |
FC |
BC |
CR |
TOTAL SR |
|
Belgiuт |
||||||
|
Région de Bruxelles |
1.5 (+1.5) |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
4.0 (+4.0) |
11.5 (+5.5) |
|
Région Wallonne |
1.5 (+1.5) |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
4.0 (+4.0) |
11.5 (+5.5) |
|
Vlaams Gewest |
1.5 (–0.5) |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
4.0 (+1.0) |
11.5 (+0.5) |
|
Gerтany |
||||||
|
All regions |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 (+1.0) |
4.0 |
12.0 (+1.0) |
|
Serbia |
||||||
|
Region Vojvodine |
0.5 (+0.5) |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
4.0 (+4.0) |
4.5 (+4.5) |
|
Regions |
LM |
EC |
FC |
BC |
CR |
TOTAL SR |
|
Spain |
||||||
|
Galicia |
0.5 |
2.0 |
1.0 |
2.0 (+1.0) |
4.0 |
9.5 (+1.0) |
|
Principado de Asturias |
1.5 |
2.0 |
1.0 |
2.0 (+1.0) |
4.0 |
10.5 (+1.0) |
|
Cantabria |
1.5 |
2.0 |
1.0 |
2.0 (+1.0) |
4.0 |
10.5 (+1.0) |
|
País Vasco |
0.5 |
2.0 |
2.0 |
2.0 (+1.0) |
4.0 |
10.5 (+1.0) |
|
Navarra |
1.5 |
2.0 |
1.0 |
2.0 (+1.0) |
4.0 |
10.5 (+1.0) |
|
La Rioja |
1.5 |
2.0 |
1.0 |
2.0 (+1.0) |
4.0 |
10.5 (+1.0) |
|
Aragón |
0.5 |
2.0 |
1.0 |
2.0 (+1.0) |
4.0 |
9.5 (+1.0) |
|
Comunidad de Madrid |
1.5 |
2.0 |
1.0 |
2.0 (+1.0) |
4.0 |
10.5 (+1.0) |
|
Castilla y León |
0.5 |
2.0 |
1.0 |
2.0 (+1.0) |
4.0 |
9.5 (+1.0) |
|
Castilla-la Mancha |
0.5 |
2.0 |
1.0 |
2.0 (+1.0) |
4.0 |
9.5 (+1.0) |
|
Extremadura |
0.5 |
2.0 |
1.0 |
2.0 (+1.0) |
4.0 |
9.5 (+1.0) |
|
Cataluña |
0.5 |
2.0 |
1.0 |
2.0 (+1.0) |
4.0 |
9.5 (+1.0) |
|
Comunidad Valenciana |
0.5 |
2.0 |
1.0 |
2.0 (+1.0) |
4.0 |
9.5 (+1.0) |
|
Illes Balears |
0.5 |
2.0 |
1.0 |
2.0 (+1.0) |
4.0 |
9.5 (+1.0) |
|
Andalucía |
0.5 |
2.0 |
1.0 |
2.0 (+1.0) |
4.0 |
9.5 (+1.0) |
|
Región de Murcia |
1.5 |
2.0 |
1.0 |
2.0 (+1.0) |
4.0 |
10.5 (+1.0) |
|
Autónoma de Ceuta |
1.0 |
2.0 |
1.0 |
2.0 (+1.0) |
4.0 |
10.0 (+1.0) |
|
Autónoma de Melilla |
1.0 |
2.0 |
1.0 |
2.0 (+1.0) |
4.0 |
10.0 (+1.0) |
|
Canarias |
0.5 |
2.0 |
1.0 |
2.0 (+1.0) |
4.0 |
9.5 (+1.0) |
|
Switzerland |
||||||
|
All regions |
1.5 |
2.0 (+1.0) |
2.0 (+1.0) |
0.0 |
3.0 |
8.5 (+2.0) |
Источник: составлено автором на основе базы данных «Субнациональный регионализм и многоуровневая политика» (Панов, 2021).
Примечание: LM – Law Making; EC – Executive Control; FC – Fiscal Control; BC – Borrowing Control; CR – Constitutional Reform. Бельгия, Германия – NUTS1. Испания, Сербия– NUTS2. Швейцария – NUTS31.
Анализ институциональных возможностей участия регионов в общенациональном политическом процессе продемонстрировал низкий уровень динамики среди регионов европейских государств в период с 2000 по 2010-е годы. При довольно гибком и лабильном институциональном состоянии автономий (self-rule) институциональный дизайн многоуровневых взаимодействий регионов в рамках общенационального политического процесса представляется весьма устойчивым на относительно длительных хронологических промежутках. В пяти европейских государствах – Бельгии и Сербии
(избирательно и значительно), а также Германии, Испании и Швейцарии (универсально и незначительно) – наблюдается динамика институциональных возможностей участия регионов в общенациональном политическом процессе. Вместе с тем подобная динамика имеет, за исключением бельгийской Фландрии, положительную тенденцию, что говорит о расширении регионами институциональных возможностей влияния на политический курс национального государства.
Королевство Бельгия
Для разрешения межрегионального конфликта Фландрии и Валлонии Королевство Бельгия в 1995 году установило модель асимметричных федеративных отношений. С этого момента наблюдается неизменная ориентация на достижение симметричности в центр-региональных взаимоотношениях, что означает нивелирование институциональной уникальности прежде всего Фландрии. В период 2000–2010-х годов динамика институциональных возможностей регионов отмечается только в области законотворчества (law making) и конституционного реформирования (constitutional reform).
Реформа 1995 года установила комплексную электоральную систему, в соответствии с которой 40 сенаторов избирались населением избирательных округов, представляющих языковые общины (25 от фламандской и 15 от франкофонной); 21 сенатор избирался советами сообществ (10 фламандских, 10 франкофонных, 1 германский); 10 сенаторов выбирались опосредованно первыми двумя категориями (6 фламандских и 4 франкофонных); еще 3 сенатора занимали пост по праву монархии (senators by right). Как отмечал К. Дешевьер, реформа 1995 года несколько сузила властный потенциал Сената, однако сохранила равные законодательные полномочия с нижней палатой парламента по вопросам языка, религии, судебной системы, конституционных актов и международных соглашений (Deschouwer, 2005, p. 60). Вместе с тем бельгийские регионы как субнациональные единицы были преимущественно выведены из законодательного процесса. Исключение составила только Фландрия (2,0 в 2001 году) (Hooghe et al., 2016; Shair-Rosenfield et al., 2021).
Изменения в институциональных возможностях регионов Бельгии в области общенационального законотворчества произошли в 2014 году. Согласно реформированной Конституции2 Сенат был преобразован в палату, формируемую по территориальному признаку (сенаторы назначаются региональными парламентами, места распределяются между регионами как субнациональными единицами и лингвистическими сообществами), а численность самих сенаторов сокращена до 60. Из них 29 сенаторов назначаются парламентом Фландрии и фламандской лингвистической группой, 20 – парламентом Валлонии и франкофонной лингвистической группой. Дополнительно 10 сенаторов избираются фламандскими и франкофонными лингвистическими группами. Одного сенатора назначает немецкое комьюнити. Конституционная реформа 2014 года лишила Сенат ряда полномочий, касающихся, в частности, одобре- ния законов о судопроизводстве и международного права (Dandoy et al., 2015, p. 328–329).
Несмотря на то, что верхняя палата бельгийского парламента теперь оценивается экспертами как более слабая, динамика институциональных возможностей регионов в области национального законодательства все же наблюдается. Более того, динамика эта положительно окрашена для Валлонии и Брюсселя, которые по данному показателю выровнялись с Фландрией (на протяжении длительного времени та доминировала в вопросе законотворчества). После 2014 года не существует нормативных правовых актов, позволяющих представителям отдельных регионов или лингвистических сообществ иметь уникальное право голоса или право вето в отношении законодательства.
Помимо реконфигурации выборной системы сенаторов конституционная реформа 2014 года закрепила требование о голосовании большинством в две трети голосов сенаторов для пересмотра положений бельгийской Кон-ституции3. Реформа также предоставила всем регионам и языковым общинам право вето на конституционные изменения. Для пересмотра специальных конституционных законов необходимо получить абсолютное большинство всех лингвистических групп Палаты представителей и Сената. В число подобных специальных законов входят те, которые регулируют вопросы институциональной системы и финансирования субнациональных региональных единиц и лингвистических сообществ, вопросы Брюсселя как региона, немецкого сообщества, а также вопросы судопроизводства, международного права и наднациональных обязательств Королевства (Peeters and Haljan, 2016, p. 419). От такого изменения институциональной возможности участия бельгийских регионов в реформировании конституционного строя государства выиграли все, получив максимально возможные полномочия. Однако стоит заметить, что в результате реформы 2014 года Фландрия увеличила институциональные возможности многоуровневого управления несколько более скромно (+0,5 – total shared-rule) в сравнении с Валлонией и Брюсселем (+5,5) (табл. 2).
Вполне закономерным воспринимается движение к симметричной федеративной конфигурации в Бельгии. Субнациональные региональные компоненты – Фландрия, Валлония, Брюссель – в целом уравниваются в отношении институциональных возможностей совместного управления. В этом аспекте бельгийская модель расширяет возможности регионов практически до максимума и становится все более похожей на германскую модель (11,5 против 12,0 соответственно).
Республика Сербия
Региональные и локальные органы власти Сербии не обладают институциональными возможностями участия в общенациональном политическом процессе. Исключительную позицию здесь занимает автономия Воеводины – субнационального компонента, получившего политическую субъектность и особый статус в 2002 году. Прежде не обладавший институциональными возможностями shared-rule, в 2000-е годы регион получил право ограниченно участвовать в совместном с общенациональными властями политическом процессе. В период 2000–2010-х годов наблюдается небольшая, но позитивная динамика в отношении двух параметров: национального законотворчества и конституционного реформирования.
Что касается участия Воеводины в общенациональном законодательном процессе, то необходимо отметить минимальный уровень компетенции региона по данному вопросу. В соответствии с электоральным законодательством Воеводина не имеет представительства в Народной скупщине – республиканском однопалатном парламенте, но вправе принимать собственные нормативные акты, что закреплено конституцией Республики Сербия в редакции 2006 года4.
Внесение корректив и поправок в сербскую конституцию является прерогативой Народной скупщины. Однако регион Воеводина обладает возможностью контролировать собственный конституционный статус посредством нескольких институциональных механизмов. Во-первых, региональная ассамблея обязательно выносит заключение по конституционным поправкам, касающимся автономной провинции5. Во-вторых, ее территория не может быть изменена без согласия жителей Воеводины, выраженного путем рефе-рендума6. В-третьих, ключевой вопрос – вопрос региональной автономии – требует одобрения большинством региональной ассамблеи7.
Позитивная динамика институциональных возможностей региона в области совместного принятия политических решений на общенациональном уровне в 2000–2010-е годы (+4,5 – total shared-rule) не распространяется на контроль исполнительной власти и контроль фискальной политики, что говорит в целом о незначительном объеме региональных полномочий в межуровневом взаимодействии. Среди асимметричных моделей субнационального взаимодействия Воеводина по общему показателю shared-rule опережает лишь французскую Корсику и уступает финским, датским и португальским автономным регионам.
Швейцарская Конфедерация
Швейцарская Конфедерация в целом предоставляет всем регионам значительные возможности институционального влияния на общенациональный политический процесс (8,5 – total shared-rule). Швейцарские кантоны обладают весомыми компетенциями в общенациональном законотворчестве и конституционном реформировании, в контроле исполнительной власти и контроле фискальной политики.
Двадцать кантонов располагают двумя представителями в верхней палате парламента, Совете кантонов Швейцарии, и каждый из шести полукантонов (Обвальден, Нидвальден, Базель-Штадт, Базель-Ланд, Аппенцелль-Аусерроден, Аппенцелль-Иннерроден) - одним представителем8. Члены палаты избираются прямым голосованием. Совет кантонов наделен правом вето по всем вопросам9. Кантоны вправе участвовать в законодательном процессе в перечисленных в конституции случаях10; отдельные кантоны могут также вносить изменения в конфедеративное законодательство посредством так называемой кантональной инициативы. Институциональные возможности регионов Швейцарии в отношении законотворчества остаются довольно широкими и неизменными с 1999 года (Dardanelli, 2013, p. 253).
То же самое можно сказать и о возможностях кантонов в области конституционного реформирования. Уникальность Швейцарской Конфедерации заключается в том, что и граждане, и правительственные органы могут инициировать внесение конституционных корректив. При этом любое конституционное изменение требует двойного одобрения на референдуме – абсолютного большинства населения страны и абсолютного большинства в большинстве кантонов (Schmitt, 2012, p. 141). Если речь идет о кантонах, то конституционные изменения возможны с федерального согласия, которое предоставляется в случае непротиворечия этих изменений конфедеративному законодательству11.
Значительные изменения в институциональном дизайне shared-rule для швейцарских регионов в рамках исследуемого периода произошли в 2000-е годы. Во-первых, в 2003 году была полностью реформирована фискальная система. Новая система налогового выравнивания регионов установила метод распределения, основанный на налоговом потенциале кантонов, а не на их реальных налоговых доходах, как было ранее. Вместе с тем с 2003 года по запросу регионов (как минимум 21 кантона) федеративные власти могут организовывать переговоры и разрабатывать межрегиональные соглашения о финансовых / налоговых трансфертах, обязательные для всех кантонов12. Подобные изменения демонстрируют расширение до максимума возможностей швейцарских регионов в части контроля фискальной политики.
Во-вторых, в 2008 году институционализируется система межправительственных взаимодействий. Правительство Швейцарии, Федеральный совет, в значительной степени находится в зависимости от регионов в вопросе реализации исполнительной власти. Консультации и межправительственные взаимодействия в рамках неформальных практик всегда были отличи- тельной характеристикой политической системы Швейцарской Конфедерации (особенно во внешнеполитических вопросах), но до 2008 года не имели обязательной силы (Linder and Vatter, 2001, p. 102). Впервые многоуровневые взаимодействия органов исполнительной власти были институционально оформлены в 1978 году, когда был создан контактный орган кантонов (Kon-taktgremium Bund-Kantone). В 1997 году для налаживания оптимальной межправительственной координации его заменили институтом Федерального диалога (Föderalistischer Dialog).
На сегодняшний день в Швейцарии функционирует широкая сеть межправительственных и межрегиональных институтов (конференций) взаимодействия по различным направлениям политического курса. Федеральное правительство обычно участвует в подобных межрегиональных взаимодействиях опосредованно – в качестве наблюдателя и медиатора (Schnabel, 2020, p. 21–22). Межрегиональные конференции формулируют политический курс и правительственные рекомендации и выпускают обязательные к исполнению межрегиональные соглашения – конкордаты. Ключевой институт подобных взаимодействий – Конференция правительств кантонов (Konferenz der Kantonsregierungen), координирующая политический курс в отношении федерального правительства и международных взаимодействий (в том числе в отношениях с Евросоюзом) (Schnabel and Mueller, 2017, p. 553).
Вместе с тем данные взаимодействия носят преимущественно горизонтальный характер межрегиональной исполнительной коммуникации. Конституционная поправка 2008 года расширила институциональные возможности кантонов в отношении вертикального измерения многоуровневой политики: они получили право требовать обязательной координации исполнительных действий в разрезе «федеративный центр – регионы». Отныне кантоны (в составе не менее 18) могут потребовать от федерального правительства обсуждения и принятия соглашения, обязательного для всех регионов, в отношении уголовного законодательства, пенитенциарной и образовательной системы, экологической, транспортной, социальной политики и политики здравоохранения. Решение центрального правительства также подлежит голосованию на референдуме, где кантоны обладают контрольными функциями (Schnabel, 2020, p. 22). Таким образом, институциональные возможности по контролю исполнительной власти для швейцарских регионов являются максимально широкими.
Федеративная Республика Германия
Субнациональные регионы Германии обладают максимальной полнотой институциональных возможностей совместного управления и политики на общенациональном уровне (12,0 – total shared-rule). Исполнительная региональная власть напрямую представлена в Бундесрате, что позволяет ей оказывать влияние на законотворческий процесс и реализацию федеральной политики. Верхняя палата германского парламента обладает широкими полномочиями: правом законодательной инициативы, правом наложения вето на законопроект, правом приостанавливающего вето. Конституционная реформа 2006 года, безусловно, внесла изменения в процедуру совместного принятия политических решений палатами парламента. В соответствии с указанными изменениями Бундестаг вправе принимать решения без одобрения Бундесрата13. Однако в этом случае федеральные земли могут отклоняться от федерального законодательства, что свидетельствует о должном влиянии субнациональных единиц на законодательный процесс. Более того, эксперты в области федеративных отношений Германии фиксируют, что эффекты подобной реформы крайне незначительны (Burkhart, 2008; Stecker, 2016). В отношении конституционного реформирования германские земли также обладают максимальными институциональными возможностями. Для внесения поправок в конституцию страны необходимо согласование ее проекта Бундесратом, а также утверждение большинством в две трети голосов депутатов Бундестага14.
Устойчивая система исполнительного федерализма (или политической интеграции, Politikverflechtung) в Германии сложилась еще во второй половине XX века. Прежде регулярные, но неформальные межправительственные рабочие встречи премьер-министров германских земель и федерального правительства по вопросам координации политического курса институализировались во второй половине 1960-х годов15. Вопросы совместной выработки решений федерального центра и регионов в области экономики, сельского хозяйства, инфраструктуры и информационных технологий прочно закрепляются в совместной исполнительной компетенции (Parker, 2014, p. 102). Разветвленная сеть межрегиональных правительственных конференций профильных министров (Ministerkonferenzen) и премьер-министров земель (Ministerprasidentenkonferenz) получает перманентное развитие: расширяется спектр сфер взаимодействия (социальная политика, архитектура, образование и наука, культура, судебная система, вопросы интеграции, экологическая политика и проч.) и углубляются межуровневые коммуникации, чему способствует создание конференций северных земель и восточных земель (Parker, 2014, p. 103). Принятие коллегиального решения, которое может стать обязательным для исполнения, чаще всего осуществляется по мажоритарному демократическому принципу, причем федеральное правительство выступает как в роли полноправного участника, так и в статусе участника без права голоса (Lhotta and Blumenthal, 2015, p. 208).
В отношении контроля фискальной политики германские земли тоже обладают широкими полномочиями. По результатам изменения конституции в 1966 году Бундесрат получил право совместно с нижней палатой определять налоговую политику (в том числе ставки налогов) и политику перераспределения налоговых доходов внутри федерации16. Вместе с тем земли Германии обсуждают фискальную политику и на межправительственных региональных конференциях (Finanzministerkonferenz) с участием федерального правитель- ства, которое, важно отметить, на данных встречах не обладает правом голоса (Schnabel, 2017, p. 134).
Обозначенные выше институциональные возможности участия регионов в общенациональном политическом управлении устойчивы на протяжении уже довольно длительного времени. Динамику в данном измерении за последние два десятилетия демонстрирует только область контроля федеральных трансфертов, государственного займа и вопросов экономического развития регионов (borrowing control). Созданные в конце 1960-х годов Экономический государственный совет (Konjunkturrat fur die Offentliche Hand)17 и Совет финансового планирования (Finanzplanungsrat)18, в состав которых входят представители региональной и федеральной исполнительной власти, призваны осуществлять координацию экономической политики и планирование федерального бюджета. С того же времени функционирует межрегиональный консультационный орган – Комитет по государственным займам (Ausschuss fur Kreditfragen der Offentlichen Hand), чьи решения не обладают юридической силой (Schnabel, 2017, p. 134).
Институциональные возможности германских земель в вопросе федеральных трансфертов были максимально расширены в 2010 году, когда Совет финансового планирования был заменен на Совет стабильности (Stabilitätsrats)19. Состав нового исполнительного органа включает федеральных министров финансов, экономики и технологий, региональных министров финансов. Решения Совета стабильности обязательны к исполнению. Они принимаются абсолютным большинством голосов; правом вето обладают федеральное правительство и правительства земель (не менее двух третей) (Schnabel, 2020, p. 24). В зону компетенций Совета стабильности входит контроль за бюджетной политикой, государственными кредитованием и займами, федеральными трансфертами.
Таким образом, федеральные земли Германии получили максимально широкую конфигурацию институциональных возможностей контроля за общенациональным политическим курсом. По показателю совместного управления (12,0 – total shared-rule) германские субнациональные единицы находятся на первом месте среди европейских регионов, а конкуренцию им могут составить только бельгийские Фландрия и Валлония. Вместе с тем необходимо отметить, что столь широкий спектр институциональных возможностей германские земли получили еще в XX веке и уже продолжительный временной отрезок динамики в данном отношении не наблюдается.
Королевство Испания
Сенат Испании предоставляет 208 мест для провинциального представительства и 58 мест для представительства общин. Представительство регионов, определяемое в пропорции к его населению, варьируется от одного сенатора (Кантабрия, Наварра) до восьми (Андалусия, Каталония)20. Сенаторы от провинций и островных легислатур (Балеарские острова, Канарские острова) составляют большинство в верхней палате общенационального парламента. Несмотря на представительство регионов, Сенат не может выступать с законодательной инициативой, а его решения могут быть отменены большинством нижней палаты (Watts, 2008, p. 41–42). Вместе с тем имеет место устойчивое разнообразие в институциональных возможностях регионов участвовать в законотворчестве. Наиболее регионалистские субнациональные единицы (Андалусия, Арагон, Каталония, Страна Басков и др.) не обладают правом законодательной инициативы на общенациональном уровне, тогда как островные регионы –обладают (табл. 2). Например, Каталония может участвовать в разработке законопроектов, затрагивающих вопросы статуса Барселоны, но не наделена правом вето на принимаемые решения.
Таким образом, представительство испанских регионов в Сенате, пропорциональное их населению, не для всех субнациональных единиц предполагает реальную возможность участия в законотворческом процессе на общенациональном уровне. Другие же институциональные возможности – контроль исполнительной власти, контроль бюджетной политики и трансфертов, а также конституционное реформирование – универсально доступны (2,0 и 4,0 по всем показателям) для всех субнациональных единиц Испании, хотя региональная специфика в реализации подобных возможностей, конечно, наблюдается.
Говоря о контроле исполнительной власти, следует заметить, что в Испании сложилась система из трех типов межправительственных конференций: 1) отраслевые конференции (Conferencias Sectoriales); 2) конференция глав регионов (Conferencia de Presidentes); 3) конференция по европейским вопросам (Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas). В 1980-х годах, после принятия закона об автономии21, межправительственные рабочие встречи активизировались и многие решения отраслевых конференций стали обязательны к исполнению (Bolleyer, 2006, p. 392). Система многостороннего контроля исполнительной власти сегодня дополняется системой двустороннего контроля исполнительной власти, состоящей из 19 комиссий по двустороннему сотрудничеству. Первые такие комиссии были созданы в Андалусии, Стране Басков и Каталонии, большинство комиссий других регионов появились в 1990-х годах (Gallarin, 2008, p. 154).
Что касается фискальной сферы, то регионы Испании могут оказывать влияние на налоговую политику посредством институционального предста- вительства в Сенате (что не является эффективным рычагом воздействия, учитывая права нижней палаты парламента) и межправительственных встреч Совета по фискальной политике и финансам (Consejo de Política Fiscal y Financiera), который формулирует рекомендации и решения по региональным налоговым формулам, трансфертам и доходам. Закон о финансах автономных сообществ 1980 года, помимо Совета, установил межрегиональный фонд компенсации22. В данном контексте институциональные возможности испанских регионов в отношении налоговой политики устойчиво широкие.
Обозначенные выше возможности регионального влияния на общенациональный политический процесс в 2000–2010-е годы вполне стабильны. Институциональный дизайн межуровневого взаимодействия для конкретных испанских регионов может отличаться, однако широта институциональных возможностей в целом остается статичной.
Единственный динамичный и подвижный элемент в структуре институциональных возможностей регионов Испании в 2000–2010-е годы – это контроль бюджетной политики и трансфертов. Как и германские регионы, испанские в «нулевые» расширили данную институциональную опцию до максимума. Координация вопроса бюджетирования и государственного долга с 1980-х годов находится в ведении уже упомянутого Совета по фискальной политике и финансам. Решения принимаются большинством в две трети (в первом туре) или абсолютным большинством (во втором туре). Вместе с тем до начала 2000-х годов решения Совета носили консультативный характер и не были обязательны к исполнению. Вступивший в силу в 2002 году закон установил, что регионы должны соблюдать бюджетную стабильность и в случае бюджетного дефицита согласовывать с Советом планы вос-становления23. Более того, в 2006 году было принято решение24 о разработке соглашения о консолидированных целевых бюджетных показателях регионов и установлено требование о согласовании плана восстановления бюджета на двухсторонней основе с центральным правительством (Ruiz-Palmero, 2017, p. 198). С 2012 года государственный долг регулируется законом о сбалансированном бюджете25. Закон установил следующие требования к бюджетной политике: общий региональный долг не должен превышать 13 % ВРП; межправительственный Совет по фискальной политике и финансам устанавливает ежегодные бюджетные показатели; дефицит бюджета принимается только парламентским большинством при условии возникновения чрезвы- чайной ситуации (экономический и эпидемиологический кризис, стихийное бедствие и проч.). Главным контрольным органом при этом остается межрегиональный Совет по фискальной политике и финансам, который одобряет трехлетний план бюджета, формируемый центральным правительством.
Субнациональный регионализм как фактор динамики институционального дизайна многоуровневой политики
Результаты анализа демонстрируют в целом статичную картину институционального дизайна shared-rule среди регионов европейских государств. Во многих европейских государствах (Австрия, Великобритания, Дания, Италия, Нидерланды, Португалия), где субнациональным единицам предоставлены хотя бы минимальные возможности институционального влияния на общенациональный политический процесс, такие возможности были имплементированы еще в период 1960–90-х годов. Рассмотренные в настоящем исследовании кейсы хотя и демонстрируют некоторые изменения в вопросе доступа регионов к совместному многоуровневому управлению государством, но их нельзя назвать слишком динамичными. Регионы Германии и Испании в 2000–2010-е годы добиваются расширения институциональных возможностей в вопросе бюджетирования и трансфертов. Кантоны Швейцарии в равной степени приобретают дополнительные возможности контроля за федеральной исполнительной и фискальной политикой. Королевство Бельгии конструирует в 2010-е годы симметричную федерацию, уравнивая Валлонию и Брюссель с доминирующим прежде в институциональном плане регионом Фландрия в вопросах законотворчества и конституционного реформирования. Наконец, сербская автономия Воеводины впервые получает возможность влиять на конституционные изменения, затрагивающие вопросы автономного статуса региона.
В подобном контексте говорить о связи динамики институциональных возможностей shared-rule в 2000–2010-е годы с субнациональным регионализмом нужно по меньшей мере осторожно, учитывая незначительность последнего. Велик исследовательский соблазн предположить, что изменения в институциональных возможностях совместного управления европейских регионов не столь существенны в общей выборке и, соответственно, не зависят от регионалистских требований и манифестаций субнациональных единиц и их сообществ. Однако, обращаясь к программным манифестам и официальным заявлениям регионалистских акторов исследуемых регионов, нужно заметить, что подобное утверждение справедливо лишь отчасти.
С одной стороны, в рамках настоящего исследования незначительностью преобразований выделяются два государства – Германия и Испания.
Динамика институционального дизайна многоуровневых взаимодействий регионов Германии в 2000–2010-е годы не связана с субнациональным регионализмом. Усиление прав федеральных земель в вопросе бюджетирования и трансфертов становится логическим завершением планомерного, равного и симметричного распределения институциональных возможностей, что одобряется всеми регионами. Регионалистские движения в целом не оказывают влияния на shared-rule в Германии.
Проявление субнационального регионализма в Испании , традиционно сильного в некоторых частях страны, практически не наблюдается в ходе реформирования институциональных возможностей регионов в отношении контроля за бюджетированием и государственным кредитованием в 2002 и 2012 годах. Подобная картина «пассивности» объясняется незначительностью динамики, а также тем, что формальные институциональные изменения стали логичным продолжением уже устоявшихся регулярных практик взаимодействия регионов и центральной власти (например, был формально зафиксирован функционал Совета по фискальной политике и финансам, работающего с 1980-х годов). Кроме того, как справедливо отмечает И. Л. Прохоренко, в рамках осуществляемой в Испании реформы статутов автономных сообществ происходит институционализация двустороннего сотрудничества между центральной властью и субнациональными образованиями / регионами (Прохоренко, 2010, с. 34–35). Реализуя собственную политическую субъектность, испанские регионы предпочитают двусторонние связи многостороннему взаимодействию.
С другой стороны, в нескольких рассматриваемых кейсах субнациональный регионализм проявляется в процессе институциональных изменений возможностей регионов совместно участвовать в общенациональном политическом процессе. Вместе с тем описанные ниже проявления субнационального регионализма не демонстрируют сильной факторной роли в процессе институциональных изменений, а наблюдаются ситуативно и контекстуально.
В случае Швейцарской Конфедерации ключевой регионалистский актор – Лига Тичино (Lega dei Ticinesi). Представляя интересы италоязычного кантона Тичино, эта партийная сила в годы институциональных преобразований (2003, 2008 годы) манифестировала регионалистские требования, которые, впрочем, не столь очевидно акцентированы на предмете реформирования (налоговый контроль, исполнительный контроль). Программные заявления партии сфокусированы на критике европейской интеграции, защите ценности итальянского языка в Швейцарии, социальной политике и вопросе трудящихся (Mazzoleni and Ruzza, 2018, p. 980). В манифесте 2007 года содержится следующее заявление: «...финансовые потоки между Тичино и Конфедерацией, которые в настоящее время не сбалансированы в пользу последних, должны быть немедленно выяснены и скорректированы»26. Однако это требование связано в первую очередь с вопросом автономии региона Тичино, а не с вопросом об институциональных возможностях совместного управления фискальной политикой. Нет серьезных оснований полагать, что субнациональный регионализм в Швейцарии оказал влияние на динамику институциональных возможностей совместного управления для кантонов. Подобный низкий уровень политической субъектности регионалистских партий в Швейцарии27 обуслов- лен прочно институционализированным регионализмом, где сама федеративная политическая система обеспечивает представительство регионов и спрос на сильные регионалистские партии элиминирован (Бедерсон и Шевцова, 2021, с. 56–57).
Система институциональных взаимодействий центра и регионов в Республике Сербия была не столь устойчива, как в Швейцарии, а потому нуждалась в энергии субнационального регионализма. Случай сербской Воеводины демонстрирует кооперацию регионалистских и общенациональных правительственных акторов в целях формирования политической субъектности региона. С одной стороны, регионалистские партии «Альянс воеводинских венгров» и «Лига социал-демократов Воеводины» выступили в 1990–2000-е годы основными субъектами автономии региона, преследуя интересы регионального сообщества; с другой, как отмечает Н. В. Борисова, Демократическая партия Сербии нередко становилась внешним «локомотивом» воеводинского регионализма в интересах стратегического взаимодействия с Европейским союзом (вплоть до евроинтеграции) (Борисова, 2020, с. 45).
В 2002 году конституционно был восстановлен автономный статус региона Воеводина, который прежде всего акцентировал внимание на праве региона на самоуправление. Ограниченные возможности совместного управления для Воеводины были скорее необходимым институциональным минимумом в дополнение к автономии, нежели отдельным регионалистским требованием. Это подтверждают и партийные манифесты регионалистских акторов. В основном программном документе партии «Альянс воеводинских венгров», который остается практически неизменным с 2004 года, закреплены требования лингвистической, культурной, образовательной, социальной и экономической политики28. Манифест пронизан регионалистскими требованиями установления экономической и административной независимости, защиты венгерской идентичности, регионального сообщества, а также прав языковых групп. Вместе с тем в 2000-е годы одним из важнейших в регионалистской политике этой партии стало манифестируемое требование трехуровневой автономии (trostepena autonomija), которое предполагает конструирование локальных автономий внутри субнациональной единицы Воеводины по этнолингвистическому принципу29. Неэтнический регионализм Воеводины, таким образом, способствовал стимулированию многоуровневого управления.
Закон Республики Сербия «О советах этнических меньшинств» 2009 года, инициированный Альянсом благодаря успешным практикам государственных консультаций Этнического совета венгров Воеводины, институционализировал на локальном уровне систему принятия политических решений при поддержке этнических советов30. В результате подобный трехуровневый
(читай: многоуровневый) характер автономии ослабляет этнический элемент в структуре субнационального регионализма Воеводины (Борисова, 2020, с. 50–51), а институциональные возможности совместного многоуровневого управления в случае с этой сербской автономной провинцией выступают, скорее, как инструмент реализации автономии, нежели как устойчивое регионалистское требование, хотя и артикулированное партийными игроками.
Явная регионалистская артикуляция в Королевстве Бельгия присутствовала и в период институционных преобразований, касающихся бельгийских регионов. Проведение шестой конституционной реформы в стране в период 2010–2014 годов было обусловлено крупным правительственным кризисом, в ходе которого коалиционное правительство не могли сформировать 541(!) день. По результатам общенациональных парламентских выборов 2010 года относительное большинство получила главная регионалистская сила – Новый фламандский альянс (Nieuw-Vlaamse Alliantie). Электоральный успех объясняется регионалистскими требованиями партии об усилении автономии региона Фландрии во второй половине 2010-х годов. Однако сформировать коалиционное правительство на общенациональном уровне альянсу не удалось (впрочем, как долгое время не удавалось и Социалистической партии). Сразу несколько конституционных вопросов имели решающее значение для всех без исключения парламентских партий. Во-первых, любые попытки согласовать интересы и найти политический компромисс разбивались о проблему электорального округа Брюссель-Халле-Вилворде. Во-вторых, по инициативе Нового фламандского альянса и христианских демократов (Christen-Democratisch en Vlaams) был вновь актуализирован вопрос о расширении налоговых компетенций регионов, что повышало экономический и фискальный потенциал богатой Фландрии и снижало его у дотационной Валлонии. В-третьих, проблема конституционного законодательства и бюджетирования столичного округа Брюсселя также стала предметом жестких дебатов.
В подобном контексте экономически более развитая Фландрия (и ее регионалистские акторы) настаивала на позиции большего расширения автономии при снижении контроля со стороны федерации (что можно именовать как тенденцию к установлению конфедерации – по модели Швейцарии)31. В свою очередь экономически менее стабильная Валлония придерживалась позиции усиления федералистских отношений и уравнивания регионов (в том числе и в отношении перераспределения бюджетирования). Вместе с тем крупным регионалистским партийным акторам (как со стороны Фландрии, так и со стороны Валлонии), по сути, не удалось повлиять на процесс конституционного реформирования 2012–2014 годов. Правительственный кризис был преодолен благодаря заключению коалицией умеренных партийных сил Институционального соглашения о шестой конституционной реформе 2011 года32.
Ключевую роль в коалиционном соглашении сыграли валлонские социалисты (PS), фламандские христианские демократы (CD-V), открытые либералы и демократы (OpenVLD), а также реформаторы (MR). Лидер валлонской Социалистической партии Э. ди Рупо успешно возглавил коалиционное правительство. Вполне ожидаемо, что в подобной конфигурации коалиции конституционная реформа Бельгии развернулась по умеренной федералистской модели. Динамика институциональных возможностей бельгийских регионов в отношении совместного управления укладывалась в русло общего движения к симметричной федеративной конфигурации. Регионы Фландрия, Валлония, Брюссель в 2014 году были максимально уравнены в отношении институциональных возможностей влияния на общенациональный политический процесс, что сделало бельгийскую модель похожей на германскую.
Таким образом, нет оснований уверенно заявлять о факторной роли фламандского (и / или валлонского) субнационального регионализма в динамике институциональных возможностей shared-rule. Регионалистские движения были исключены из принятия сложного коалиционного решения, а сама конституционная реформа явилась очередной попыткой разрешить этнолингвистический конфликт внутри бельгийской федерации между регионалистски настроенными сторонами (Демешева, 2014, с. 64–65). Сами регионалистские акторы критично восприняли институциональные измерения шестой реформы, что также говорит о низкой вероятности даже слабого прямого влияния субнационального регионализма на конституционный процесс. В частности, по мнению Х. Вуйе, эксперта по конституционному праву и видного функционера Нового фламандского альянса, необходимо выступать против федерализации и симметрии, поскольку единственный выход из политического кризиса Бельгии – асимметрия, в рамках которой субнациональные единицы были бы автономны в выборе пути развития (Goossens and Cannoot, 2015, p. 49–50). Валлонские регионалисты, партия DeFI, напротив, выделяют в шестой конституционной реформе недостаточный характер федерализации, обвиняя правительство в ограниченных мерах33.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты анализа подчеркивают несколько тенденций. За последние 20 лет системы взаимодействия регионов и административных центров европейских государств практически не изменяются в части совместного многоуровневого управления (shared-rule) и представляют собой устойчивые институционализированные конфигурации. Нет оснований утверждать, что динамика (точнее, ее скромное выражение в кейсах Германии и Испании и более яркое выражение в кейсах Бельгии, Сербии и Швейцарии) по данной переменной связана с субнациональным регионализмом. Регионалистские движения, проявляющиеся в манифестациях и институциональных стрем- лениях регионалистских партийных акторов, в 2000–2010-е годы активизируются во многих европейских государствах. Однако подобная активность сфокусирована на достижении и расширении политической субъектности субнациональной единицы в отношении ее автономии и самоуправления (self-rule), но не участия региона в общенациональном политическом процессе. Субнациональный регионализм не играет весомой факторной роли в отношении институциональных возможностей регионов по совместному управлению в 2000–2010-е годы, но может присутствовать, скорее, контекстуально и ситуативно (например, в случае сербской Воеводины, получившей в дополнение к автономному статусу возможность налагать вето на конституционные поправки в отношении самого региона). Гипотеза исследования не была подтверждена. Субнациональный регионализм не оказывает существенного влияния на динамику институтов совместного управления европейских регионов.
В условиях низкой динамики в 2000–2010-е годы конфигурации институциональных возможностей европейских регионов приобретают черты стабильности и устойчивости. Это можно объяснить, прежде всего, двумя ключевыми факторами. С одной стороны, субнациональный регионализм сам по себе ориентирован в первую очередь на установление и закрепление региональной автономии в терминах самоуправления (self-rule) и лишь затем, как следствие, происходит манифестация и требование институционализации совместного управления и участия в общенациональном политическом процессе (shared-rule). Влияние субнационального регионализма как фактора в этом случае может быть опосредованно, что трудно поддается фиксации и операционализации. С другой стороны, процесс институционализации совместного управления (не только с точки зрения установления институтов, но и с точки зрения их развития и расширения возможностей участия регионов) должен подкрепляться устойчивым ответным желанием центральных властей на установление подобных институтов. При этом национальные правительства могут избирать различные стратегия для лоббирования приемлемых для них решений, рассчитывая выгоды и издержки предоставления (и / или расширения) возможностей институционального участия субнациональных единиц в совместном управлении. Это, в свою очередь, дает основания полагать, что в теоретико-методологическом смысле необходимо стремиться к диалектичному подходу к объяснению факторов динамики институциональных возможностей регионов: интенции регионализма как политического движения субнациональных единиц должны быть созвучны позиции национального центра.
Список литературы Институциональные возможности совместного управления европейских регионов и субнациональный регионализм
- Бедерсон В. Д., Шевцова И. К. Регионалистские движения в современной Швейцарии: примеры Тичино и Бернской Юры // Современная Европа. 2021. № 3. С. 50-60. DOI: 10.15211/soveurope320215060 EDN: TOUTRB
- Борисова Н. В. Судьба "неэтнического регионализма" и языковые требования в регионалистской повестке: Воеводина и Истрия в сравнительной перспективе // Вестник Пермского университета. Политология. 2020. Т. 14, № 1. С. 40-53. DOI: 10.17072/2218-1067-2020-1-40-53 EDN: IIYSLZ
- Демешева Ю. В. Система законодательной власти Бельгии и ее преобразование в рамках шестой государственной реформы // Сравнительное конституционное обозрение. 2014. № 2. С. 58-67. EDN: SAJKDT
- Панов П. В. База данных "Субнациональный регионализм и многоуровневая политика (REG-MLG)" // Вестник Пермского университета. Политология. 2021. Т. 15, № 4. С. 111-120. DOI: 10.17072/2218-1067-2021-4-111-120 EDN: GUAGSR
- Панов П. В. Многоликий регионализм // Вестник Пермского университета. Политология. 2020. Т. 14, № 1. С. 102-115. DOI: 10.17072/2218-1067-2020-1-102-115 EDN: GGUBXG