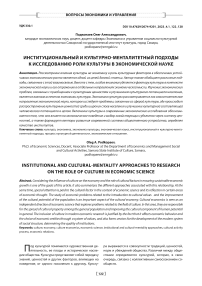Институциональный и культурно-менталитетный подходы к исследованию роли культуры в экономической науке
Автор: Подкопаев О.А.
Журнал: Вестник Академии права и управления @vestnik-apu
Рубрика: Вопросы экономики и управления
Статья в выпуске: 4-1 (75), 2023 года.
Бесплатный доступ
Рассмотрение влияния культуры на экономику и роль культурных факторов в обеспечении устойчивого экономического роста является одной из целей данной статьи. Автор также обобщает различные подходы, связанные с этой взаимосвязью. Вместе с тем, особое внимание уделяется фактору культуры в контексте экономической науки и его отражению в отдельных направлениях экономической мысли. Изучение экономических проблем, связанных с приобщением к культурным ценностям и улучшением культурного потенциала населения, является важным аспектом экономики культуры. Экономика культуры рассматривается как самостоятельное направление экономической науки, которое исследует проблемы, связанные со сферой культуры, где происходит распространение культурных ценностей среди широких слоев населения и улучшение культурной составляющей человеческого потенциала в целом. Включение культуры в современные экономические исследования обосновывается тем, что она влияет на экономическое поведение и выбор хозяйствующих субъектов через систему ценностей, а также формирует векторы развития современной системы общественного устройства, определяя качество институтов.
Культура, экономика, экономика культуры, экономическая наука, институциональный и культурно-менталитетный подходы, процесс культурной деятельности, экономические отношения
Короткий адрес: https://sciup.org/14129525
IDR: 14129525 | УДК: 330.1 | DOI: 10.47629/2074-9201_2023_4.1_122_128
Текст научной статьи Институциональный и культурно-менталитетный подходы к исследованию роли культуры в экономической науке
Под культурой понимается художественная деятельность, ее плоды и историческое наследие общества. Культура представляет собой передачу знаний, ценностей и других факторов, влияющих на поведение, от одного поколения к другому. Культу- ра выражается в совокупности традиций, ценностей, норм и убеждений общества. Различия между обществами определяются культурой, которая, в свою очередь, связана с коллективным самосознанием сообществ.
Неформальные институты, которые оказывают влияние на экономическое поведение людей, такие как общие ценности и предпочтения, могут быть детерминированы некоторыми экономистами как культура. Другими словами, культура представляет собой систему неформальных институтов, функционирующих в конкретном обществе. Государство является гарантом исполнения жестко фиксированных правил, которые называются формальными институтами. Но в обществе также существуют правила, которые не зафиксированы в каком-либо документе и называются неформальными институтами, гарантом исполнения которых является член данного общества. Изменение ценностей в культуре требует значительного времени, в отличие от быстрого принятия закона. Одна из причин плохой работы формальных институтов или их полного отсутствия может быть связана с дегармонизацией формальных и неформальных институтов [1]. Если закон противоречит культурным особенностям, люди будут склонны нарушать его. По этой же причине проявляется проблема неудачного переноса институтов из одного общества в другое.
Во всех рассмотренных выше подходах к пониманию культуры просматривается один аспект, в котором культура опосредованно выступает экзогенным фактором, который оказывает влияние на поведение и выбор людей как экономических агентов, что представляет культуру методологически комплиментарной с классической теоретической экономикой. В экономической науке культура часто рассматривается как противоположность экономическому контексту, однако это не мешает включить культуру в ее научные исследования. Проникновение культуры в экономическую сферу может быть обусловлено несколькими экзогенными факторами, присутствующими в модели. Включение культуры в систему причинно-следственных связей в экономической теории возможно благодаря концептуализации культуры как внешнего фактора [2]. В связи с этим, сегодня многие ученые, как отечественные, так и зарубежные, интерпретируют экономику культуры не только как экономику определенных отраслей, связанных с культурой, но и как более широкую экономическую науку, которая учитывает культурные факторы [3]. В настоящее время общепризнанно, что в процессе культурной деятельности возникают и протекают полноценные экономические отношения, которые связаны с сохранением, созданием, распространением и освоением культурных ценностей, предоставлением культурных благ и оказанием социально-культурных услуг.
Институты, которые демонстрировали свою эффективность на своей родине, могут не сработать в другой среде и превратиться в симуляцию, потребляющую ресурсы без достижения желаемого эффекта. Поэтому экономисты изучают влияние культуры на экономику с целью более эффективного переноса и создания институтов. Они предполагают, что культурный код нации поможет им создавать новые, качественные институты, которые будут успешно функционировать на новой почве.
В нашей стране распространение получил перевод «Экономика культуры», в то время как многие зарубежные ученые используют термин «Cultural economics», которыйбуквально переводится как«Куль-турная экономика». Однако данный перевод для россиян некорректен, поскольку прилагательное «культурный» в русском языке имеет положительную оценочную коннотацию. «Экономика в сфере культуры» имеет более узкое значение, чем понятие «Экономика культуры». Однако, последнее не полностью передает суть международного термина «Cultural economics». Более точно можно сформулировать его как «Экономическую науку, включающую культуру», или как «Экономическую науку, учитывающую влияние культурных факторов на экономическую деятельность» [4].
В классической политической экономии и исторической школе были освещены вопросы, связанные с экономическими проблемами и культурой. Ранние экономисты не считали, что нравственность, убеждения и традиции находятся за пределами интересов экономической науки. Вместе с этим, до начала XX века, культура и экономическая наука изучались вместе, то есть предметы, которые мы сегодня называем культурой и экономической наукой.
Культура и экономика всегда были неразрывно связаны. Даже великие экономисты Адам Смит и Джон Стюарт Милль признавали, что культурные аспекты в определенных случаях оказывают гораздо большее влияние на человеческое поведение, чем простое стремление к личной выгоде.
В обществе доминирующую культурную систему определяет в первую очередь сложившаяся технология, как считал Карл Маркс, немецкий философ и экономист. Его взгляд на причинно-следственную связь между экономическими отношениями и культурой полностью перевернул устоявшиеся представления.
Религия, по Марксу, является побочным продуктом производственных отношений. Но Макс Вебер, немецкий философ, считал религию одним из главных факторов развития капиталистического общества. Новый экономический порядок всегда встречает сопротивление со стороны масс, и поэтому только экономические стимулы недостаточны для убеждения предпринимателей в необходимости принятия новой системы производственных отношений. Именно здесь религия играет важную роль в формировании капиталистических отношений.
Труд имеет разное значение в разных религиозных доктринах и оказывает разное влияние на развитие капитализма. Например, протестантские ве- рующие более склонны к трудолюбию, в отличие от католиков, и протестантские страны обладают более высоким уровнем социально-экономического развития по сравнению с католическими странами. В своем труде «Протестантская этика и дух капитализма» Макс Вебер отмечал, что в странах, где одновременно распространены протестантизм и католицизм, протестанты становятся владельцами значительного капитала и высококвалифицированными специалистами. Они проповедуют накопление богатства и благосостояния как необходимость и обязанность каждого христианина [5]. Эту зависимость объяснил Макс Вебер следующим образом: в католицизме труд рассматривался как необходимое зло, не связанное с перспективами спасения, тогда как в протестантизме труд и предпринимательство считались морально оправданными и полезными для общества.
Экономист венгерского происхождения Карл Полани, работавший в Америке и Канаде, также придерживался мнения о религии и культуре как «факторе сдерживания», иногда препятствующем проявлению законов рынка [6]. Однако после Второй мировой войны это учение не получило широкого распространения среди экономистов. В то время, когда экономическая наука все больше развивала математические методы моделирования, казалось, что нет необходимости включать в анализ дополнительные неизвестные факторы, такие как культура, которые трудно поддаются количественной оценке.
После победы маржиналистской революции в 1870-х годах, экономическая наука стала значительно более абстрактной, что привело к игнорированию культурных факторов при проведении экономических исследований. Этот период характеризовался переходом от классической политической экономии к неоклассической экономической теории – маржи-нализму, представителями которого были К. Менгер, У.С. Джевонс и Л. Вальрас с их теорией предельной полезности.
В 1958 году известный американский ученый, специалист в области государственного управления, Эдвард Бэнфилд провел исследование, которое стало одной из первых экономических работ, рассматривающих культуру как независимый фактор. В своем исследовании Э. Бэнфилд доказал, что культурные системы, сложившиеся в различных странах, могут объяснять низкие темпы развития экономики. Он привел пример южной Италии, где экономика была слабой по сравнению с индустриально развитым севером страны, и объяснил это местными культурными традициями [7].
В 1993 году политолог Роберт Патнэм представил свою гипотезу, заявляющую, что качество политических и государственных структур в обществе возрастает пропорционально его «альтруистичности».
Существует непосредственная связь между процветанием экономики страны и определенными характеристиками ее граждан, такими как экономное и бережливое отношение к ресурсам, трудолюбие, настойчивость, честность и толерантность. Одновременно, ксенофобия, религиозная нетерпимость и коррупция являются гарантом бедности большинства населения и замедленного экономического развития [8]. Это было доказано историком и экономистом Дэвидом Ландесом.
Вывод итальянского экономиста Гвидо Табел-лини основан на анализе уровня образования и качества политических институтов в 69 европейских регионах. В результате исследования было установлено, что в тех регионах, где преобладает взаимное доверие, вера в индивидуальную инициативу и уважение к закону, наблюдается повышенный объем валового внутреннего продукта и ускоренные темпы экономического роста.
В современной мировой экономической литературе наблюдается возрождение интереса к культуре в контексте экономической науки. Один из самых ярких проявлений этого интереса можно увидеть в книге «Культура имеет значение», которая была издана Хантингтоном и Харрисоном. Авторы этой книги представляют голландскую традицию исследований в области измерения культуры и ее влияния на экономическую деятельность [9]. В данной работе был сделан вывод, что новая институциональная экономика, которая сегодня является частью основного течения современной экономической теории, объясняет институты, не выходя за пределы рационального поведения и методологического индивидуализма.
Феномен менталитета или культуры является коллективным и унаследованным, а не выбранным. В экономической науке понятие культуры относится к макроуровню и коллективным свойствам, тогда как основная часть экономической теории базируется на индивидуальном уровне и микроэкономическом поведении отдельных акторов [10]. Поэтому исследования культуры в экономической науке сталкиваются с проблемой объединения коллективного и индивидуального, что в практическом плане означает необходимость разрешить проблемы, связанные с агрегированием данных и передвижением между макро- и микроуровнями.
Предпринимательские наклонности и готовность делегировать полномочия подчиненным подвержены влиянию культурных норм, которые влияют на индивидуальное экономическое поведение. Подозрительные люди менее склонны к предпринимательству, в то время как доверчивые люди больше подходят для этой роли. Высокий уровень межличностного доверия повышает вероятность обмана, в то время как низкий уровень может привести к упу- щению возможности получить прибыль. Руководители бизнеса, которые доверяют, предоставляют своим подчиненным творческую свободу и делегируют полномочия, тогда как руководители с низким уровнем доверия стремятся удержать власть в своих руках.
Важность рынка труда зависит от уровня доверия между людьми. Если уровень доверия в стране между людьми высокий, то профсоюзы играют важную роль в защите прав работников. В противном случае, они обращаются за поддержкой к государству. Из этого следует две различные системы защиты прав работников: «северная» модель, которая характерна для стран Северной Европы с высоким уровнем доверия, и «южная» модель, которая распространена в странах Южной Европы. Первая модель более гибкая и эффективная: государство помогает потерявшим работу найти новую, но не защищает от увольнения. Во второй модели установлены правила, усложняющие увольнение сотрудника. Однако, если он не квалифицированный, такая «защита» может привести к снижению производительности труда в компании.
Более высокий уровень товарооборота и прямых иностранных инвестиций часто характеризует государства, которые проявляют большое доверие другим странам в экономических сделках. Фактор доверия становится особенно важным при совершении экономических сделок в условиях полной или частичной неизвестности. Таким образом, уровень доверия людей друг к другу оказывает значительное влияние на экономическое развитие.
Исследования, основанные на эмпирических данных, выявили, что идеология религиозных традиций значительно влияет на экономику страны, формируя у верующих специфическое отношение к функциям государства и представления о социально-экономическом поведении. Сравнительный анализ показал, что верующие люди, в отличие от атеистов, не проявляют склонности к поддержке государственной политики перераспределения. Это объясняется тем, что религиозные общины, являющиеся альтернативой государственной системы социального страхования, готовы оказать помощь и поддержку своим членам в случае необходимости. В результате, в странах с более высокой религиозностью налоговое бремя оказывается ниже, так как религиозные люди берут на себя функции государства в области социального страхования внутри своих общин.
Индивидуальная тенденция к накоплениям у людей определяется языком, на котором они говорят. Если язык имеет отдельную грамматическую форму для выражения будущего времени, как это бывает в русском языке, то будущее кажется далеким, и человек начинает относиться к своей жизни менее ответственно. Интересно, что в странах, где язык имеет четкое разделение настоящего и будущего времени, доля сбережений в валовом внутреннем продукте почти на 5 % меньше. У носителей языка, в котором будущее выражается через настоящее время, накопления к моменту выхода на пенсию почти на 40 % больше, а вероятность курения меньше на 1/4 и вероятность ожирения меньше на 1/7.
Так называемая статистическая дискриминация, подтвержденная экспериментальными исследованиями в разных странах, имеет огромное влияние на человеческую жизнь. Имя человека играет ключевую роль в его судьбе, определяя его происхождение и нормы поведения. Оно может стать причиной ограничений и преград на рынке труда. Носители «чужих» имен сталкиваются с предрассудками и негативными ожиданиями со стороны работодателей, что отражается на их возможностях и заработной плате. Этот непростой феномен требует серьезного изучения и понимания для создания справедливого общества. Во многих странах, включая Швецию, Нидерланды, Францию и США, «экономические санкции» применяются в отношении тех, у кого «неправильное» имя. Изменение имени на такое, которое звучит более привычно для местной культуры, влияет на отношение к человеку. Для мигрантов это может означать значительное повышение заработка и вероятности трудоустройства. В 1930-е годы в США иммигранты, принявшие популярные местные имена, стали зарабатывать в среднем на 1/7 больше. В Швеции доходы выходцев из Африки, арабских и славянских стран увеличились на ¼ после того, как они сменили свои фамилии на шведские.
Разнообразие институтов и культур оказывает влияние на экономическое поведение. Например, можно было заметить огромные различия в экономическом поведении между ФРГ и ГДР, а также Северной и Южной Кореей, которые объясняются различиями в институциональных системах. В то же время, даже с похожими формальными институтами, бывшие социалистические страны восточного и западного христианства также имеют значительные различия. Проблема соотношения институтов и культур в общественном мнении была вновь актуализирована в связи с притоком беженцев с Ближнего Востока в Западную Европу и их поведением в условиях, не привычных им институтов западного общества. Новые грани человеческого поведения могут быть раскрыты через институциональные и культурно-менталитетные подходы, которые представляют собой различные абстракции или срезы этого поведения.
Примером положительного влияния культуры на экономическое поведение является успех людей, которые покинули свою родину и достигли успеха в новом месте. В мультикультурных обществах с одинаковыми экономическими стимулами для всех, определенные этнические или религиозные группы пре- успевают больше, чем остальное население. Например, евреи во многих капиталистических странах или китайцы в соседних регионах, таких как Индонезия, Мьянма, Филиппины и Малайзия [11]. У многих китайцев, пребывающих на своей родине, не наблюдались проявления «предпринимательской харизмы», однако, когда они покинули свою страну и освоились в другой, они стали успешными и предприимчивыми членами общества. Вероятно, причина заключалась в том, что на их родине положительные культурные аспекты не проявлялись из-за неработающих или неправильно функционирующих институтов. Когда эти люди переехали в другую местность с подходящими институтами, они извлекли «дивиденды» от положительных элементов культуры.
Связь между экономическим успехом и культурными ценностями не постоянна и однонаправле-на в разные эпохи. Ценности, которые приняты в западных странах, такие как личное достижение и процветание, могут быть обнаружены в других культурах, но в сочетании с отличными от западных ценностями [12]. Например, конфуцианство, помимо того, что настаивает на подчинении молодых поколений старшим, всегда подчеркивало важность самосовершенствования и старалось внушить у детей стремление к новым достижениям. Таким образом, цель социализации в традиционном Китае состоит в достижении баланса между стремлением к успеху и уважением к старшим, что гарантирует стабильность социальных связей. В экономическом успехе не только западные ценности, такие как рационализм и индивидуализм, играют благоприятную роль, но и азиатские ценности, включая конфуцианский динамизм и долгосрочную перспективу. Эти ценности проявили свою связь с экономическим прогрессом в странах Юго-Восточной Азии, таких как Гонконг, Южная Корея, Сингапур и Тайвань.
В развивающихся странах или в странах «третьего мира», система экономического стимулирования и трудовая этика страдают из-за нестабильной и непредсказуемой политики властей. Это происходит потому, что многие местные компании, ограниченные возможностями долгосрочного планирования, стремятся лишь к получению максимальной краткосрочной прибыли. Гарвардский профессор экономики М. Портер утверждает, что культуры стран с низким экономическим развитием не являются следствием особенностей народа, а скорее результатом неосведомленности или подчинения ложным теориям. Он также отмечает, что иногда ложные теории могут быть насаждены с идеологической целью или использоваться в качестве удобного метода политического контроля. Экономическое и политическое происхождение часто определяют культурные особенности, присущие различным нациям.
В период радикальных экономических реформ 90-х годах в нашей стране сформировалась убежденность в том, что переход от плановой к рыночной экономической системе может осуществиться в «автоматическом режиме». Введение свободных рыночных цен и приватизация социалистической собственности, с одной стороны, создали благоприятные условия для развития рыночной экономики, а, с другой стороны, они привели к серьезным и продолжительным кризисам в постсоветских странах. В связи с этим, внимание теоретиков и практиков рыночных реформ переключилось на изучение институциональной среды, которая является неотъемлемой частью нормального функционирования рыночной экономики. Прямое внедрение формальных институтов не привело к положительным результатам: они, успешно функционирующие в развитых странах, в российской среде принесли в основном неожиданные и неудовлетворительные результаты. В этой связи, внимание исследователей было переключено на саму среду – необходимость учета культуры и менталитета при проведении экономических реформ. Таким образом, в процессе экономических преобразований стали учитываться такие понятия, как культура и менталитет, которые определяют эти неформальные институты [13].
В 2006 году Авнер Грейф опубликовал прорывную работу о важности анализа культуры в контексте институтов и экономического развития. Грейф считает, что сейчас недостаточно обращают внимание на то, что ненаблюдаемые институциональные элементы, такие как культура, могут различаться в разных обществах и влиять на эффективность институтов. Даже при одинаковых формальных правилах о правах собственности, два разных общества могут столкнуться с различными объемами инвестиций из-за разных убеждений в реализации этих прав [14]. Это утверждение Грейфа соответствует общему выводу многих экономистов о том, что культура имеет значение и ее влияние следует учитывать в экономических теориях.
Социокультурная модернизация общества требует выявления как культурных преимуществ, так и культурных препятствий, которые замедляют его развитие. Для этого экономисты вместе с культурологами, социологами, философами, социальными психологами изучают культуру общества и отдельных социальных групп. Исследователи интересуются ценностями людей, их моделями поведения в социальнополитическом пространстве, актуальными потребностями, установками и ожиданиями – все это может составлять их уникальную «ментальную карту». Они проводят как масштабные кросс-культурные исследования, сравнивающие различные страны, так и небольшие локальные исследования отдельных регионов страны или отдельных социальных групп.
Определение дефиниций культуры и ее факторов является необходимым для экономической науки, которая учитывает влияние культурных факторов на экономическую деятельность. Недостаток ясного и однозначного определения часто приводит к недопониманию в ходе дискуссий. Например, при обсуждении роли культуры в экономическом развитии антрополог и экономист могут ошибочно полагать, что они понимают друг друга, но на самом деле их интерпретации могут значительно отличаться. Один из них может считать, что речь идет о противоречивых идеях и ценностях, возникающих в результате текущих политико-экономических процессов, в то время как другой может толковать культуру как древние традиции, присущие статичному самосознанию общества. Обсуждение роли культуры в экономической науке обречено на провал, если мы не объясним заранее, что мы имеем в виду под словом «культура».
Экономическая теория сегодня отошла от классической модели рационального субъекта, который руководствуется исключительно «холодным» рассудком. Некоторые исследователи были удивлены тем, что человек не является автоматом, который вычисляет наиболее эффективный способ использования ограниченных ресурсов. Он подвержен эмоциям, внезапным порывам и влиянию моды. В общем, оказалось, что человек более сложный, чем бездушная «экономическая машина» для принятия рациональных решений. Его поведение, включая экономическое, подвержено влиянию множества факторов, которые корректируют рациональное поведение. Начался «экономический империализм», когда экономисты осознали, что чтобы создать более точную модель человека, им необходимо заняться изучением других дисциплин. Таким образом, возникло представление об ограниченной рациональности человека, и экономисты приняли решение проникнуть на территорию междисциплинарных исследований вопросов влияния внеэкономических факторов на экономическое поведение человека.
Под названием«Экономический империализм» скрывается феномен, когда экономисты стремятся проникнуть в другие области знания, применяя свои привычные методы. Они активно исследуют психологию, демографию, антропологию, социологию, политологию и другие дисциплины, в поисках ответов на свои вопросы. Однако не все ученые с радостью принимают экономистов в своих рядах, так как их выводы иногда являются слишком обобщенными, грубыми, тривиальными или даже ошибочными. Таковы стандартные трудности для новичков, пытающихся погрузиться в мир междисциплинарных исследований. Возможность остановить эту экспансию кажется нереальной, так как она приводит к появлению очень успешных междисциплинарных гибридов, таких как поведенческая экономика или нейромаркетинг, что подтверждается, например, присуждением Нобелевской премии ученым, занимающимся исследованиями в этих областях.
Экономический империализм продолжает свою экспансию в область социокультурной модернизации общества, ранее принадлежавшую культурологам и социальным антропологам. Культурные коды граждан могут либо стать конкурентным преимуществом, либо увлечь экономистов в безнадежное положение на долгие годы. Ценности граждан страны и их представления о мире могут либо стимулировать развитие общества, либо замедлить его прогресс. Изучение актуальных предпочтений в ценностях помогает исследователям понять тенденции развития и определить ключевые факторы, влияющие на общественное развитие. В современном контексте, культура приобретает значение ресурса, необходимого для новой экономики, а также активного субъекта развития и источника нового мышления. Эксперты проводят исследования и составляют карты культурных ресурсов и потенциала различных территорий. Они также разрабатывают управленческие технологии и конкретные предложения о том, как культурное наследие и современная культура могут сформировать уникальность места, изменить его имидж и заинтересовать как местное сообщество, так и туристов. Памятники культуры и события культурной жизни теперь становятся ключевыми элементами в маркетинговой стратегии туризма и влияют на инвестиционную политику.
Таким образом, в данном исследовании была предпринята попытка задать контекст для дальнейших исследований значения культуры в экономической науке, а также дана аргументация дополнительной ценности включения культуры в экономическую теорию.
Список литературы Институциональный и культурно-менталитетный подходы к исследованию роли культуры в экономической науке
- Ивашковский С. Культура, экономическое поведение и развитие / Экономическая политика. 2014. № 4. С. 177-194.
- Ивашковский С.Н. Экономика как феномен культуры: теоретико-методологический анализ / Вестник МГИМО-Университета. 2017. № 3 (54). С. 268-290.
- Рубинштейн А.Я. Финансирование опекаемых благ в гуманитарном секторе экономики (опыт институционального исследования) / В сборнике: Институциональная экономическая теория: история, проблемы и перспективы. – Санкт-Петербург: «ИЭ РАН», 2019. С. 152-174.
- Музычук В.Ю. Культура и экономика: существующие научные подходы к отражению взаимосвязи / Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2022. Т. 15. № 5. С. 50-67.
- Бёгельсдейк Ш., Маселанд Р. Культура в экономической науке: история, методологические рассуждения и области практического применения в современности. – М.: Институт Гайдара, 2016. 464 с.
- Barro R., McCleary R. Religion and Economic Growth across Countries // American Sociological Review. 2003. Vol. 68, №. 5. Pp. 760-781.
- Тульчинский Г.Л. Культура как ресурс и барьер инновационного развития / Инновации. 2012. № 5 (163). С. 76-81.
- Рожкова М.Г., Краснобаева Е.А. Культура как ресурс развития экономики региона / Актуальные вопросы учета и управления в условиях информационной экономики. 2020. № 2. С. 85-92.
- Культура имеет значение. Каким образом ценности способствуют прогрессу / Под ред. Л. Харрисона и С. Хантингтона. М.: Московская школа политических исследований, 2002. 320 с.
- Тарновский В.В. Экономика культуры и культура экономики: институциональный аспект / Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. 2017. Т. 79. № 4 (74). С. 237-243.
- Харрисон Л. Евреи, конфуцианцы и протестанты: культурный капитал и конец мультикультурализма. – Москва: Мысль, 2014. 286 с.
- Музычук В.Ю. Сфера культуры и результаты культурной деятельности в контексте политэкономического подхода / Вопросы политической экономии. 2018. № 4. С. 91-103.
- Карпунина Е.К., Андросов В.В. Экономическая политика государства: значение национального российского менталитета / Социально-экономические явления и процессы. 2010. № 1 (17). С. 45-49.
- Розмаинский И.В. Экономическая культура как фактор и барьер экономического роста / Journal of Institutional Studies (Журнал институциональных исследований). 2012. Т. 4. С. 22-32.