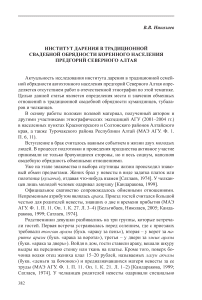Институт дарения в традиционной свадебной обрядности коренного населения предгорий Северного Алтая
Автор: Николаев В.В.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: XVIII, 2012 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14521895
IDR: 14521895
Текст статьи Институт дарения в традиционной свадебной обрядности коренного населения предгорий Северного Алтая
Актуальность исследования института дарения в традиционной семейной обрядности автохтонного населения предгорий Северного Алтая определяется отсутствием работ в отечественной этнографии по этой тематике. Целью данной статьи является определения места и значения обменных отношений в традиционной свадебной обрядности кумандинцев, тубала-ров и челканцев.
В основу работы положен полевой материал, полученный автором и другими участниками этнографических экспедиций АГУ (2001–2004 гг.) в населенных пунктах Красногорского и Солтонского районов Алтайского края, а также Турочакского района Республики Алтай (МАЭ АГУ. Ф. 1. П. 6, 11).
Вступление в брак считалось важным событием в жизни двух молодых людей. В процессе подготовки и проведения празднества активное участие принимали не только брачующиеся стороны, но и весь социум, наполняя свадебную обрядность обменными отношениями.
Уже на этапе знакомства и выбора спутницы жизни происходил знаковый обмен предметами. Жених брал у невесты в виде задатка платок или полотенце ( куланчи ), отдавая что-нибудь взамен [Сатлаев, 1974]. У челкан-цев лишь молодой человек одаривал девушку [Кандаракова, 1999].
Официальное сватовство сопровождалось обменными отношениями. Непременным атрибутом являлась арака . Приезд гостей считался большой честью для родителей невесты, знавших о дне и времени прибытия (МАЭ АГУ. Ф. 1. П. 11. Оп. 1. К. 27. Л. 3–4) [Бельгибаев, Николаев, 2005; Канда-ракова, 1999; Сатлаев, 1974].
Родственники девушки разбивались на три группы, которые встречали гостей. Первая встреча устраивалась перед селением, где с приезжих требовали тонгош аразы (букв. «араку за пень»), вторая – у ворот за па-ритке аразы (букв. «арака за ворота»), третья – у двери за эжик аразы (букв. «арака за дверь»). Войдя в дом, гости ставили араку, вешали шкуру выдры на переднюю стенку или ткань на платье. Кроме того, поверх бочонка водки отец жениха клал 15–20 рублей, называемых лагун акчазы (букв. «деньги за бочонок») и предназначавшихся матери невесты за ее труды (МАЭ АГУ. Ф. 1. П. 11. Оп. 1. К. 21. Л. 1–2) [Кандаракова, 1999; Сатлаев, 1974]. У челканцев родителей невесты одаривали специально привезенными поясами курчи из шелка (МАЭ АГУ. Ф. 1. П. 11. Оп. 9, 11. К. 20. Л. 1–3).
В обряде сватовства важное место занимал обряд чоочой . В ходе символического распития араки и последующего пира брачующиеся стороны обсуждали состав калыма и приданого. Интересно, что состав калыма существенно изменился за несколько столетий. Так, тубалары и челканцы во времена джунгарского господства (XVII – середина XVIII в.) за невесту платили калым подо , включавший продукты охоты и собирательства, а также средства для рыболовства. Кроме того, существовала ежегодная помощь зятя ( куйенин болыжы ) родителям невесты в виде доставки мяса зверей [Потапов, 1953].
В начале XX в. состав калыма значительно изменился. Важнейшими составляющими выкупа у кумандинцев стали деньги и лошадь. Шкурку соболя специально покупали из-за невозможности добыть зверя в тайге [Шерр, 1903].
Принадлежность автохтона к определенному сеоку предопределяла в прошлом право на экономическую взаимопомощь, к которой прибегали при сборе средств для уплаты калыма за невесту и во время подготовки к свадьбе. В XX в. стал практиковаться рублевый сбор с холостых односельчан [Сатлаев, 1974]. Другой формой помощи являлся обычай сбора среди родственников продуктов и напитков, называвшийся тем (букв. «общение, единство») [Дьяконова, 1980].
В отличие от калыма, размер приданого не определялся, но обычно был равноценен калыму и включал предметы домашнего быта, одежду, скот, пчелиные семьи и пушные шкурки ( тукмал ). Богатые ко всему прочему изготовляли овчинную шубу. Приданое невесты в значительной степени обеспечивало материальную базу новой семьи. Оно могло отсутствовать в случае насильственной кражи девушки [Сатлаев, 1974; Славнин, 2005; Шерр, 1903].
Менее затратным для брачующихся сторон был брак «убегом» и кража невесты, т.е. с согласия девушки и без такового. Причиной существования подобных форм брака являлась неспособность выплатить калым. Похищение невесты давало возможность отдать выкуп постепенно [Шерр, 1903].
Спустя неделю после кражи, родители жениха, взяв калым, араку и другие угощения, ехали с поклоном к отцу и матери невесты на простины ( чараш – у кумандинцев, дьараш – у челканцев). Получив прощение, они возвращались уже с молодыми. Гости трижды ставили угощения (обычно большой туес араки) – за ворота, за двери и за вход в горницу (как при сватовстве). Дочь привозила в качестве гостинца своим родителям курник . В свою очередь хозяева резали барана, а в богатых семьях – коня. Зять угощал родителей своей избранницы аракой за пищу, приготовленную для него в чугуне ( казан ажынын учун ). Гостям также подносили молочную водку ( карыг аразы ) (МАЭ АГУ. Ф. 1. П. 11. Оп. 1. К. 18, 21. Л. 3) [Бельги-баев, Николаев, 2005; Кандаракова, 1999; Сатлаев, 1974; Славнин, 2005].
Сговор между родителями малолетних детей, закреплявший дружественные отношения между двумя семьями или кузенный брак, обусловленный тесными взаимоотношениями племянника и дяди по матери, сопровождались многократными подарками между брачующимися. В.Д. Славнин [2005] указывает на существование у чедыберов формы брака, предполагавшей помощь жениха (зачастую сироты) по хозяйству в доме невесты. В данном случае тоже можно говорить об обменных отношениях: девушка в обмен на отработку.
Собственно свадебное действо было насыщено актами дарения, основная цель которых – обеспечение благополучия молодых. Так, обряд плетения кос невесты сопровождался многочисленными ритуалами, восходящими к семантическому значению волос в традиционных тюркоязычных сообществах. Например, волосы опрыскивали водой для обеспечения длительной и счастливой жизни. Тубалары использовали молоко, считавшееся оплодотворяющей жидкостью, содержащей кут ребенка. Собственно заплетенные косы символизировали ровную и спокойную семейную жизнь. Ритуал сопровождался исполнением песен (МАЭ АГУ. Ф. 1. П. 6, 11. Оп. 1, 4. К. 13, 27. Л. 3–4, 15) [Бельгибаев, Николаев, 2005; Шерр, 1903]. У челканцев концы волос соединялись вместе и обвязывались вокруг головы или просто связывались, символизируя единение и неразлучность молодоженов (МАЭ АГУ. Ф. 1. П. 11. Оп. 1, 10. К. 21, 22. Л. 1–2, 6–7) [Кан-даракова, 1999].
Когда завершались приготовления невесты, начиналось благословление молодых и приобщение их к «хозяину жилища» ( шалыг или урген эзи ). Шаман (или заменяющий его человек) черпал ложкой лапшу из тарелки и разбрызгивал ее по углам, обращаясь к «хозяину жилища». Затем обкуривали веткой можжевельника молодую пару. За эту работу кама одаривали, а с проникновением товарно-денежных отношений – платили деньги (МАЭ АГУ. Ф. 1. П. 6, 11. Оп. 3, 10, 11. К. 11, 34. Л. 2, 9–11) [Сатлаев, 1974].
Основное свадебное угощение – грудинку и тутпач – накладывали в блюдо. Перед принятием пищи «угощали» огонь и говорили благословения. Первыми тутпач ели молодожены. Согласно представлениям кумандинцев, это обеспечивало передачу молодым души будущего ребенка. После новобрачных лапшу пробовал благословляющий, лишь потом начинали угощать всех остальных (МАЭ АГУ. Ф. 1. П. 11. Оп. 1, 9, 11. К. 18, 20. Л. 1–3).
Участие родителей и родственников невесты в свадебном обряде зависело от формы брака, но в любом случае предполагались взаимные угощения. У тубаларов при браке «убегом» и краже девушки сторона жениха устраивала встречу ( уткул ) в отдалении от аила. Уткул сопровождался откупами и угощением молочной водкой, различными праздничными блюдами [Бельгибаев, Николаев, 2005].
Длительность свадебного празднества зависела от достатка принимающей стороны. Есть сведения, что у челканцев свадьбу играли два дня: сначала в аиле жениха, а затем у родителей девушки. Второй день празд- ника носил название пельчек и сопровождался одариванием молодой пары (МАЭ АГУ. Ф. 1. П. 11. Оп. 10. К. 22. Л. 6–7).
Первый год брака и рождение первенца можно охарактеризовать как переходный период, когда помощь и участие родителей и родственников молодоженов были жизненно важными. Совершаемые в это время обряды являлись логическим продолжением и завершением обрядов, связанных с бракосочетанием. Молодая пара посещала ближайших родственников жены. Данный обряд, как и вино с угощением, которое привозили гости, носил название торгун . Во время визитов практиковалось одаривание новорожденного скотом ( тиш – букв. «молочные зубы») [Бельгибаев, Николаев, 2005; Кандаракова, 1999; Сатлаев, 1974].
Таким образом, брак у коренного населения предгорий Северного Алтая можно рассматривать как обмен между родами, сопровождавшийся на каждом этапе многочисленными дарами и отдарками. Дары, помимо установления тесных взаимоотношений между брачующимися сторонами, формировали экономический базис молодой семьи. Многочисленные пожелания и ритуальные действа представляли передачу членами социума собственного благополучия новой его ячейке. Институт дарообмена демонстрирует устойчивость во времени, но изменчивость содержательной составляющей, а зачастую и формы бытования, происходит под влиянием социально-экономических трансформаций.