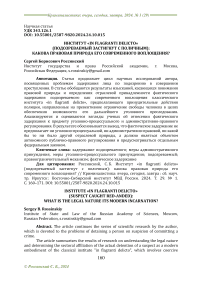Институт «in flagranti delicto» (подозреваемый застигнут с поличным): какова правовая природа его современного воплощения?
Автор: Россинский С.Б.
Журнал: Криминалистика: вчера, сегодня, завтра @kriminalistika-vsz
Рубрика: Уголовно-правовые науки
Статья в выпуске: 1 (29), 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья продолжает цикл научных исследований автора, посвященных проблемам задержания лица по подозрению в совершении преступления. В статье обобщаются результаты изысканий, касающихся понимания правовой природы и определения отраслевой принадлежности фактического задержания подозреваемого как современного воплощения классического института «in flagranti delicto», предполагающего принудительные действия полиции, направленные на превентивное ограничение свободы человека в целях обеспечения возможности его дальнейшего уголовного преследования. Анализируются и оцениваются взгляды ученых об отнесении фактического задержания к предмету уголовно-процессуального и административно-правового регулирования. В результате обосновывается вывод, что фактическое задержание не предполагает ни уголовно-процессуальной, ни административно-правовой, ни какой бы то ни было другой отраслевой природы, а должно являться объектом автономного публично-правового регулирования и предусматриваться отдельным федеральным законом.
Задержание подозреваемого, меры административного принуждения, подозреваемый, правоограничительный механизм, фактическое задержание, меры уголовно-процессуального принуждения
Короткий адрес: https://sciup.org/143182515
IDR: 143182515 | УДК: 343.126.1 | DOI: 10.55001/2587-9820.2024.24.10.015
Текст научной статьи Институт «in flagranti delicto» (подозреваемый застигнут с поличным): какова правовая природа его современного воплощения?
Архаичный институт «in flagranti delicto», предполагающий действия правоохранительных органов полицейского типа при задержании человека с поличным, восходит к глубокой древности. В силу понятных причин он был свойственен любым пра-вопорядкам, существовавшим в различных странах в разные исторические периоды. При этом в современной России он нашел воплощение в известных механизмах задержания лица по подозрению в совершении преступления, а если быть точнее – в действиях сотрудников «силовых» ведомств по фактическому захвату человека «на месте», то есть по принудительному ограничению свободы некоего попавшего в зону «полицейского» внимания индивида в целях его доставления для последующего разбирательства. Причем, несмотря на столь длительную историю института «in flagranti delicto» и на весьма обстоятельную доктринальную проработанность вопросов задержания подозреваемого в советских и постсоветских публикациях уголовнопроцессуальной направленности, многие из возникающих в данном сегменте публично-правового регулирования проблем по-прежнему остаются неразрешенными, продолжают побуждать к серьезным спорам и полемическим диспутам, а предопределенные ими нормативные лакуны и противоречия – вызывать трудности в повседневной практической деятельности сотрудников правоохранительных органов и адвокатов, ставить в достаточно уязвимое положение задерживаемых лиц.
Автором настоящей статьи уже неоднократно предпринимались попытки формирования некоторых научных позиций о сущности и правовой природе задержания, в том числе фактического захвата, подозреваемого, направленные на внесение посильной лепты в разрешение существующих доктринальных проблем и устранение имеющихся нормативных противоречий. Результаты указанных трудов нашли отражение в ряде публикаций, в том числе в представленной в 2019 г. на строгий суд читателей монографии «Задержание подозреваемого: конституционно-межотраслевой подход». Однако за прошедшее время интерес к этой проблематике лишь усилился – автор неоднократно возвращался к размышлениям над вопросами о фактическом задержании подозреваемого, старался участвовать в их обсуждении с коллегами и учениками. В итоге некогда высказанные взгляды были сопоставлены с выводами, сделанными в ходе прочих авторских изысканий по проблемам досудебного производства, приведены в еще более стройную систему, а некоторые из них – частично пересмотрены и переосмыслены. Вследствие этого возникла потребность в обобщении всех имеющихся на сегодняшний день воззрений, в их приведении к «единому знаменателю». Решению такой научной задачи и посвящается настоящая статья.
Основная часть
Итак, под фактическим захватом (задержанием) подозреваемого как современным российским воплощением института «in flagranti delicto» надлежит понимать находящуюся в ве́дении правоохранительных органов принудительную меру, направленную не столько на юридическое, сколько на сугубо реальное (физическое) ограничение свободы человека, осуществляемую в целях его доставления для дальнейшего разбирательства в органы предварительного расследования и нередко сопряженную с применением физической силы, специальных средств, в первую очередь наручников и тому подобных инструментов подавления воли. К слову, этот механизм является родственным еще одному близкому по природе и правовому предназначению «полицейскому» приему – настоятельному требованию проследовать к дознавателю, следователю или в суд как начальному этапу фактического приво́да, то есть контролируемого доставления определенных лиц, не желающих добровольно выполнять предписания о явке для участия в проведении запланированных процессуальных действий.
Особо пристальное внимание и трепетное отношение законодателя к фактическому задержанию стало следствием возникшей в конце XX в. доктринальной моды на известные либеральные воззрения, подразумевающие возведение прав и свобод от- дельных индивидов на недосягаемый пьедестал и отождествляющие заботу о них чуть ли не с генеральной целью и основными задачами правоохранительной деятельности. Поэтому неудивительно, что Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации1 (УПК РФ) во многом впитал указанные позиции. Само по себе задержание подозреваемого было определено как мера принуждения, применяемая с момента фактического задержания (!); с этого же момента было предписано исчислять установленный Конституцией Российской Федерации 48-часовой срок внесудебного ограничения свободы личности.
Однако человеку, хотя бы немного знакомому с работой правоохранительных органов, в частности державшему в руках «живые» уголовные дела, должны быть хорошо известны практические трудности, вызванные подобными нормативными формулировками и, к великому сожалению, нередко подлежащие преодолению не иначе как посредством неисполнения (ненадлежащего исполнения) существующих предписаний. В этой связи многие авторы начали искать аргументы, позволяющие хоть как-то объяснить допущенные разработчиками УПК РФ просчеты, стали предлагать различные доводы, хоть как-то способствующие признанию фактического захвата полноценной частью, некой нулевой фазой «следственной» процедуры задержания подозреваемого, то есть предусмотренной гл. 12 УПК РФ меры уголовнопроцессуального принуждения [1, с. 53; 2, с. 57–58 и др.].
А некоторые ученые предлагают усилить процессуальную формализацию фактического задержания - прямо дополнить гл. 12 УПК РФ соответствующими правовыми нормами [3, с. 152; 4, с. 27 и др.].
Конечно, любые подобные взгляды имеют полное право на существование и заслуживают определенного внимания. Однако они представляются не вполне состоятельными - ввиду изначальной предопределенности неким «неоспоримым» постулатом о процессуальном характере фактического задержания заподозренного в совершении преступления лица.
Но так ли уж неоспорим данный постулат? Действительно ли фактический захват, будучи упомянутым в нормах УПК РФ, является частью «следственной» процедуры задержания подозреваемого как меры уголовно-процессуального принуждения, в том числе требует более четкой нормативной формализации?
Представляется, что нет! Оценки фактического задержания как подлинно процессуального приема, как предрасположенной к включению в предмет уголовно-процессуального регулирования формы реализации государственно-властных полномочий сильно преувеличены. На самом деле явно требуемый для подобного вывода нормативный посыл: «фактическое задержание - это уголовнопроцессуальное действие, то есть фрагмент уголовно-процессуальной деятельности» нельзя усмотреть ни в одном положении УПК РФ. В конце концов, как уже неоднократно отмечалось в публикациях автора настоящей статьи, сущность уголовнопроцессуальной формы никоим образом недопустимо ставить в зависимость от простого упоминания в тексте уголовно-процессуального закона какого-либо предмета, документа или юридического факта. Одновременно говорилось, что такой формой надлежит признавать лишь прямо установленный УПК РФ и обремененный комплексом юридических гарантий порядок (!) производства определенного процессуального действия, принятия процессуального решения и пр. [5, с. 75].
Сказанное становится еще более очевидным при сравнении положений российского законодательства с соответствующими положениями ныне действующего УПК Беларуси, разработчики которого зачем-то проявили в стремлении к формализации фактического захвата лица гораздо бо́льшую правотворческую «расторопность». Задержание, как говорится в ч. 1 ст. 107 белорусского Кодекса, сводится к фактическому задержанию лица, его доставлению в орган уголовного преследования и кратковременному содержанию под стражей в определенных законом местах и условиях. И в этой связи остается лишь порадоваться, что российскому законодателю все же удалось занять по указанным вопросам более взвешенную, «консервативную» позицию.
Кстати, по всей вероятности, такая правотворческая умеренность, в чем то даже осторожность, была проявлена благодаря традиционно существующей в национальной доктрине иной, прямо противоположной точке зрения, предполагающей недопустимость понимания фактического захвата как процессуального действия, в частности его включения в предусмотренную уголовнопроцессуальным законом «следственную» процедуру задержания подозреваемого [6, с. 298, 7, с. 24; 8, с. 106-107]. Подобные взгляды являются гораздо более справедливыми, хотя бы ввиду соответствия общим подходам к сущности и содержанию уголовно-процессуальных правоотношений.
Ведь фактическому задержанию не присущ важнейший признак любых уголовно-процессуальных правоотношений, состоящий в обязательном участии хотя бы одного из наделенных соответствующими государственно-властными полномочиями субъектов: дознавателя (органа дознания), следователя, прокурора либо суда. Подобные захваты заподозренных в совершении преступлений лиц проводятся совершенно другими должностными лицами – сотрудниками «силовых» ведомств (МВД России, ФСБ России, ФСИН России, Росгвардии и пр.). Все эти лица тоже наделены государственно-властными полномочиями – в противном случае они просто оказывались бы неспособными ограничивать свободу задерживаемых и принуждать их к перемещению в органы предварительного расследования. Однако такие полномочия не являются уголовнопроцессуальными, а осуществляются в какой-то иной правовой сфере. Более того, порядок их реализации вовсе не лишен определенной правовой формы, не предполагает, по крайней мере не должен предполагать, абсолютной свободы и вседозволенности в использовании принудительных инструментов. Непосредственные правила фактического задержания, несмотря на явно «сырую», непригодную для надлежащего уяснения и единообразного применения нормативную регламентацию, тем не менее существуют – они, хотя и недостаточно четно, но все же вытекают из смысла ряда законодательных и подзаконных актов, устанавливающих полномочия и условия работы каждого из правоохранительных органов в отдельности, то есть нормативных актов, традиционно относимых к сфере административно-правового регулирования, например Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»2, Федерального за- кона от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасно-сти»3, Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Феде-рации»4, Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах уголовноисполнительной системы Российской Федерации»5 и т. д. Поэтому еще некоторые советские ученые-процессуалисты утверждали об административно-правовом характере фактического захвата подозреваемого, считали этот правоограничительный механизм типичной административной формой реализации государственно-властных полномочий [6, с. 298; 9, с. 17]; схожие оценки можно встретить и в более современных публикациях [8, с. 107–108; 10, с. 28].
Кстати, весьма примечательно, что аналогичные, по крайней мере близкие по смыслу позиции неоднократно высказывались и учеными-административистами, в первую очередь специалистами в области исполнительно-распорядительной деятельности органов внутренних дел – справедливо обращалось внимание на недопустимость сведения всего административного права лишь к законодательству об административных деликтах. И в этой связи утверждалось, что, несмотря на использование для нужд уголовной юстиции, подобные полномочия правоохранительных органов полицейского типа все равно сохраняют свою административную сущность [11, с. 35; 12, с. 41 и др.].
В целом все подобные воззрения представляются лежащими в совершенно верном направлении и заслуживают безусловной поддержки, поскольку не связаны с признанием фактического задержания фрагментом урегулированной нормами УПК РФ уголовно-процессуальной деятельности органов предварительного расследования. Вместе с тем полностью согласиться со взглядами авторов, ратующих за включение такой правоограничительной меры в предмет административного права, тоже достаточно сложно. И тому есть серьезные причины.
Так, сама по себе сфера административно-правового регулирования вообще является несколько условной. Ведь современные доктринальные подходы к механизмам публичного администрирования предполагают их понимание как в узком («классическом» административноправовом), так и в широком смыслах. Причем широкое понимание данных механизмов позволяет причислять к таковым самые разнообразные формы и методы деятельности любых наделенных властными полномочиями участников государственного управления - наряду с «классическими» субъектами административноправовых отношений, то есть органами исполнительной власти и должностными лицами, к ним обычно относят и органы законодательной (представительной) власти, и суды, и Центральный банк Российской Федерации, и Счетную палату Российской Федерации, и т. д. [13, с. 29-30, 14, с. 9]. К тому же построение и принципы работы всех этих органов зачастую сильно напоминают построение и принципы работы типичного министерства либо его структурного подразделения. В частности, именно подобным образом - как бы на основе «министерских» канонов – организована деятельность прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации, не говоря уже о прочих органах дознания и предварительного следствия, вообще являющихся структурными элементами органов внутренних дел, органов ФСБ России, органов и учреждений ФСИН России, других органов исполнительной власти полицейского, квазиполицейского и параполицейского типов.
К слову, такое построение органов предварительного расследования и прокуратуры полностью соответствует сформированным за последние сто лет и уже неоднократно констатированными автором настоящей статьи уникальным и самобытным подходам к национальной системе досудебного производства по уголовному делу, предполагающими переплетение функций «полиции» и «юстиции» с возложением юрисдикционных (судебно-следственных) полномочий на внесудебные органы исполнительной власти [15, с. 62]. Более того, как уже неоднократно отмечалось в публикациях автора, в результате наблюдавшейся за долгие годы административизации следственной и прокурорской деятельности в соответствующих органах возникла бюрократическая аура, появились особый «министерский» климат, своеобразная чиновничья ментальность и прочие атрибуты аппаратной работы [16, с. 126].
В подобной парадигме досудебного производства любые присущие ему действия и решения в определенном смысле тоже попадают в сферу административно-правового регулирования. И в этой связи жесткое разграничение двух последовательно проводимых задержаний: фактического, осуществляемого «на месте», и дальнейшего «следственного» (формального), проводимого в порядке ст. ст. 91–92 УПК РФ, – в зависимости от отраслевой принадлежности соответствующих правовых норм, по сути, становится просто бессмысленным.
Более того, такие научные позиции представляются весьма рискованными – они способны привести (и нередко, увы, приводят!) к ошибочным суждениям, предполагающим доктринальную и практическую путаницу, смешение воедино совершенно разных принудительных механизмов: 1) фактического захвата подозреваемого в совершении преступления как современного российского воплощения института «in flagranti delicto» и 2) осуществляемого в порядке ст. ст. 27.3–27.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях6 (КоАП РФ) административного задержания как меры обеспечения производства по делу административном правонарушении. К великому сожалению, в публикациях уголовно-процессуальной направленности на полном серьезе высказываются идеи об административном задержании как о прелиминарном этапе «следственного» задержания [17, с. 43], что в свою очередь побуждает к возникновению соответствующих прикладных технологий и их массовому использованию в правоприменительной практике. Кстати, по всей вероятности, в эту же «ловушку» попали и сами разработчики УПК РФ, приравняв 3-часовой срок составления протокола задержания подозреваемого к сроку задержания по делу об административном правонарушении. По крайней мере, никакого доктринального обоснования данного срока просто не существует. Хотя какие-либо подмены фактических задержаний подозреваемых предусмотренными КоАП РФ принудительными мерами обеспечения производства по делам об административных правонарушениях следует расценивать как грубейшие нарушения законодательства, на что неоднократно обращалось внимание в инструктивных документах Генеральной прокуратуры Российской Федерации, и последний раз – в п. 1.7 приказа Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 17 сентября 2021 г. № 544 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия»7.
К тому же высказываемые в ряде публикаций идеи об административно-правовом характере фактического задержания подозреваемого не согласуются с возможностью использования данного правоограничительного приема в ходе проведения оперативно-розыскной и уголовноисполнительной деятельности. А между тем подобные формы работы правоохранительных органов не только вполне допустимы, но и имеют повсеместное распространение. В оперативно-розыскной и пенитенциарной практике можно встретить множество случаев, связанных с фактическими задержаниями подозреваемых в ходе проведения проверочных закупок, контролируемых поставок, оперативных экспериментов, всевозможных режимных мероприятий, проводимых должностными лицами учреждений ФСИН России, и т. д.
По всей видимости, в рамках настоящей статьи нет никакой надобности в очередном (котором по счету!?) освещении различий между разными формами судопроизводства, между предварительным расследованием уголовного дела и первоначальным этапом производства по делу об административном правонарушении. Однако необходимо обратить внимание, что, несмотря на такие различия, и уголовно-процессуальное, и административное задержания – это достаточно близкие по предназначению и способам осуществления меры принудительного воздействия на поведение определенных лиц. Поэтому каждому из них предшествует фактический захват, (говоря образно, хватание человека за шиворот, надевание на него наручников и т. п.), то есть некие физические действия, позволяющие превентивно ограничить свободу подлежащего задержанию индивида. Правда, в силу относительной простоты механизмов административной юрисдикции и фактический захват, и формальное задержание предполагаемого правонарушителя, как правило, сливаются в единую процедуру, осуществляемую одним и тем же должностным лицом, например сотрудником полиции, в связи с чем четкая правовая грань между ними не так ощутима. Тогда как усложненные, обремененные более серьезными юридическими гарантиями механизмы досудебного производства, напротив, не предрасположены к интеграции фактического и формального («следственного») задержаний, к их соединению в общую правовую конструкцию и нахождению в ве́дении одного и того же субъекта. Но подобные различия вовсе не исключают необходимости проведения фактических захватов предположительно подлежащих юридической ответственности лиц и в том, и в другом случаях.
К тому же проводимые «на месте» фактические захваты вообще еще не предполагают уголовного либо административного преследований как основных индикаторов уголовнопроцессуальных или административно-процессуальных правоотношений. А в целом ряде случаев сотрудники, замещающие должности рядового, младшего, а иногда и среднего начальствующего состава правоохранительных органов, вообще не отдают (и в силу должностного положения не должны отдавать (!)) себе отчет в именно преступном либо административно-деликтном характере действий задержанных, поскольку просто не располагают (и не должны располагать (!)) столь глубокими юридическими познаниями. И тем более они не уполномочены юридически оценивать совершенные такими лицами деяния. Их основная задача – не подменять собой субъектов уголовной или административной юрисдикции, не определять потенциально подлежащие применению статьи уголовного закона или КоАП РФ, а всего лишь прелиминарно, как бы «на глаз», распознавать вероятную причастность к совершению каких-то запрещенных законом проступков (по крайней мере, некую антисоциальность деяний) попадающих в поле их зрения людей, в связи с чем действовать по принципу «держи вора!», то есть превентивно пресекать возможности скрыться, продолжать противоправное поведение, уходить от ответственности и т. д., после чего принудительно доставлять таких лиц в «отдел» для разбирательства – именно такой смыл традиционно и вкладывался в институт «in flagranti delicto». В частности, выдвигаемое подобными сотрудниками «полицейское», в определенном смысле даже бытовое, подозрение (как бы «подозрение на месте») еще не является подозрением уголовнопроцессуальным, то есть начальным этапом конкретизированного уголовного преследования (in personam), предполагающим введение лица в предусмотренный ст. 46 УПК РФ юридический статус подозреваемого.
Выводы и заключение
На основании всего изложенного напрашивается вывод, что институт «in flagranti delicto» в его современном российском воплощении, то есть совокупность положений, определяющих фактическое задержание (захват) человека по подозрению в совершении преступления, не предполагает ни уголовно-процессуальной, ни административно-правовой, ни какой бы то ни было другой отраслевой природы. Такой институт должен являться объектом особого, автономного правового регулирования – предусматриваться предопределенной ст. 22 Конституции Российской Федерации совокупностью публичноправовых норм, регламентирующих единые основания и унифицированный порядок физического ограничения должностными лицами правоохранительных органов свободы заподозренного в каком-либо преступном деянии индивида в целях пресечения его противоправного поведения и доставления для дальнейшего разбирательства к дознавателю или следователю. Да и вообще к подобной, как бы межотраслевой сфере правового регулирования по-хорошему надлежит относить не только сам фактический захват, а всю процедуру задержания подозреваемого в целом, включая составление протокола и прочие формальности, в настоящее время находящиеся в компетенции субъектов уголовной юрисдикции (органа дознания, дознавателя, следователя). Ведь невзирая на существующие в течение нескольких десятков лет правотворческие тенденции, направленные на по- степенную процессуализацию процедуры задержания подозреваемого, на ее инкрементальное превращение в одну из форм реализации уголовнопроцессуальных полномочий, вся эта процедура (от фактического захвата лица до его заключения под стражу / домашнего ареста либо освобождения), по своей сути, продолжает оставаться превентивной мерой полицейского характера, позволяющей безотлагательно, прямо «на месте» ограничивать свободу попавшего в зону внимания правоохранительных органов лица и удерживать его под контролем вплоть до решения вопроса о применении к нему требуемой меры пресечения - именно на основе подобного представления о задержании и формировалось законодательство подавляющего большинства государств, в том числе соответствующие положения Устава уголовного судопроизводства Российской империи 1864 г. и первых Уголовнопроцессуальных кодексов РСФСР 1922 и 1923 гг.
И в этой связи в настоящее время существует объективная потребность в разработке и принятии самостоятельного Федерального закона «О задержании», адресованного не столько субъектам уголовной юрисдикции, сколько полиции и другим правоохранительным органам полицейского, квазиполицейского и параполицейского типов, который бы определил основания, условия и четкий правовой механизм внесудебного ограничения свободы человека в соответствии конституционноправовыми стандартами и ценностями российского общества.
Список литературы Институт «in flagranti delicto» (подозреваемый застигнут с поличным): какова правовая природа его современного воплощения?
- Гриненко, А. В. Задержание в состязательном уголовном процессе // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2015. № 6 (23). С. 51–56.
- Химичева, О. В., Шаров, Д. В. Некоторые аспекты обеспечения прав лица при задержании по подозрению в совершении преступления // Законы России: опыт, анализ, практика: науч. журн. 2018. № 5. С. 56–61.
- Зайцев, О. А., Смирнов, П. А. Подозреваемый в уголовном процессе. М.: Экзамен, 2005. 320 с.
- Цоколова, О. И. Фактическое задержание // Законность: науч. журн. 2006. № 3. С. 25–28.
- Россинский, С. Б. Уголовно-процессуальная форма: сущность, проблемы, тенденции и перспективы развития // Актуальные проблемы российского права: науч.-практ. юрид. журн. 2020. Т. 15. № 9. С. 67–79.
- Мирский, Д. Я. Правовая природа задержания лица, подозреваемого в совершении преступления // Труды Иркутского университета. Т. 49. Вып. 8. Ч. 4. Иркутск: Изд-во Иркутского университета, 1969. С. 294–301.
- Березин, М. Н., Гуткин, И. М., Чувилев, А. А. Задержание в советском уголовном судопроизводстве. М.: Академия МВД СССР, 1975. 93 с.
- Григорьев, В. Н. Задержание подозреваемого. М., 1999. 541 с.
- Гуткин, И. М. Актуальные вопросы уголовно-процессуального задержания: учеб. пособие. М.: Академия МВД СССР, 1980. 89 с.
- Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / под ред. В. В. Мозякова. М.: Экзамен XXI, 2002. 864 с.
- Соловей, Ю. П. Совершенствование ведомственного нормативно-правового регулирования деятельности милиции // Совершенствование деятельности органов внутренних дел по охране общественного порядка и общественной безопасности. М.: Академия МВД СССР, 1991. С. 30–38.
- Бекетов, О. И. Меры непосредственного принуждения, применяемые должностными лицами правоохранительных органов Российской Федерации. Омск: Омская академия МВД России, 2004. 84 с.
- Тихомиров, Ю. А. Управление на основе права. М.: Формула права, 2007. 484 с.
- Россинский, Б. В. Размышления о государственном управлении и административной ответственности // Административное право и процесс: науч. журн. 2016. № 5. С. 6–24.
- Россинский, C. Б. Российская система досудебного производства как синтез различных типов уголовного процесса // Государство и право: науч. журн. 2023. № 4. С. 58–65.
- Россинский, С. Б. Уголовно-процессуальная форма VS правила уголовно-процессуального делопроизводства // Труды Института государства и права РАН: науч. журн. 2023. Т. 18. № 1. С. 116–135.
- Яшин, В. Н. О некоторых проблемах института задержания подозреваемого в отечественном уголовном процессе // Вестник образовательного консорциума Среднерусский университет. Серия: Юриспруденция: сетевое издание. 2016. № 7. С. 40–49. URL: file:///C:/Users/kovalskaia.lu/Downloads/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_7.pdf (дата обращения: 25.11.2023).