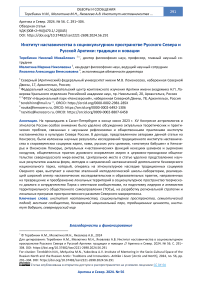Институт наставничества в социокультурном пространстве русского Севера и русской Арктики: традиции и новации
Автор: Теребихин Н.М., Мелютина М.Н., Яковлева А.В.
Журнал: Арктика и Север @arcticandnorth
Рубрика: Обзоры и сообщения
Статья в выпуске: 56, 2024 года.
Бесплатный доступ
На прошедшем в Санкт-Петербурге в конце июня 2023 г. XV Конгрессе антропологов и этнологов России особое внимание было уделено обсуждению актуальных теоретических и практических проблем, связанных с научными рефлексиями и общественными практиками института наставничества в культурах Севера России. В докладе, представленном авторами данной статьи на Конгрессе, были изложены научные результаты исследований традиционного института наставничества в староверческих социумах карел, коми, русских усть-цилемов, «института бабушек» в Кенозерье и Онежском Поморье, ритуальных «наставнических» функций ненецких шаманов и зырянских колдунов, общественных практик духовного окормления мирян в церковно-приходском общежительстве севернорусского мира-земства. Центральное место в статье уделено представлению научных результатов анализа форм, методов и направлений наставнической деятельности Кенозерского национального парка, который, опираясь на этнокультурное наследие традиционных социумов Озерного края, выступает в качестве эталонной методологической школы-лаборатории, реализующей широкий спектр наставнических исследовательских и образовательных практик, направленных на превращение и преображение локальных территорий в социокультурное пространство творческого диалога и сотрудничества Парка с местными сообществами, на подготовку лидеров и активистов территориального общественного самоуправления (ТОСы), на разработку региональной стратегии и локальных программ пространственного развития Северного макрорегиона.
Институт наставничества, социокультурное пространство, семиотический подход, местное сообщество, кенозерский национальный парк, традиционные ценности, институт бабушек, севернорусский мир
Короткий адрес: https://sciup.org/148329434
IDR: 148329434 | УДК: [008+2+94](470.1/.2)(045) | DOI: 10.37482/issn2221-2698.2024.56.291
Текст обзорной статьи Институт наставничества в социокультурном пространстве русского Севера и русской Арктики: традиции и новации
DOI:
Изучение роли и места института наставничества в социокультурном пространстве этнических и локальных сообществ Русского Севера и Русской Арктики приобретает особую теоретическую и практическую актуальность и значимость в контексте президентского Указа об объявлении 2023 года «Годом педагога и наставника».
В методологическом инструментарии исследования традиционных форм института наставничества как механизма передачи (трансмиссии) сакрального знания и умения, священного слова и дела наиболее сильную позицию занимают семиотический подход и герменевтика, ориентированные на интерпретацию (истолкование) мифа, символа и ритуала, которые в своем триединстве составляют язык традиции в его синтаксическом, семантическом и прагматическом аспектах.
Ярким примером эффективности подобного подхода к исследованию процесса передачи (переноса) сакрального наследия как ядра традиции является концепция «культурносемиотического трансфера», разработанная С.С. Аванесовым для изучения парадигмальных оснований переноса сакральных пространств в устроении топики русского города [1]. Культурно-семиотический трансфер образует стержневую нить традиционного института наставничества, основанного на идеях и образах передачи, переноса, перехода, стояния, пути-дороги. Наставник — вождь, вожатый, предводитель, проводник, ангел, гений человека и социальной группы, ведущий их по циклической горизонтали мифа о вечном возвращении и вертикали небесного избранничества-преображения.
Наставник — это харизматический лидер этнических и локальных сообществ Русского Севера и Русской Арктики, их духовный вожатый, сопутник в путешествиях по инициатиче-ским пространствам жизни и смерти на самом северном Крае Земли. Таким харизматическим лидером саамов и ненцев являлся шаман, который «стоит в центре этноса и является его главной “маской”, “маской масок”. Шаман в этносе представляет собой его персонифицированный и функциональный синтез. Он выполняет главную работу этноса: следит за сохранением постоянства этнической структуры. Шаман выражает собой баланс, то, что делает этнос этносом — неизменность, непрерывность, трансляцию кода, передачу знаний (мифов, обрядов, традиций), исправление всех погрешностей социального и природного характера, с которыми сталкивается этнос. Шаман обеспечивает неизменность статики, он есть выражение этноса как статического явления» [2, Дугин А.Г., с. 212].
В архаических социумах кочевников Арктики шаман как «космочеловек» выступает в качестве наставника не только своего двойника — ученика, но и всей этнической группы, проходящей вместе с неофитом (новым избранником духов) драматический ритуал посвящения (инициации). Развёрнутое описание и анализ статусных функций шамана - наставника в обрядах шаманской инициации у ненцев представлены в работах Л.В. Хомич [3] и Л.А. Лар [4].
Харизматическим лидером и героем преданий лесного царства народа коми являлся колдун, узурпировавший и усвоивший статус духовного наставника у низвергнутого апостолом зырян Стефаном Пермским языческого шаманского идола. После уничтожения-низвержения шаманов («памов») колдун, ранее занимавший строго определённое и специализированное место в шаманистской иерархии, начинает присваивать себе функции, находившиеся в компетенции шамана, в том числе похищает и его харизму божественного избранничества, претендует на роль духовного наставника — предводителя этноса. Но колдун — это обращённый, подменный, самозванный шаман, и его медиативная деятельность вносит неопределённость, непредсказуемость в социум, порождает постоянную тревогу и настороженность. Поскольку колдун это превращённый шаман, постольку в его мифологическом образе много квазишаманских черт. На нём лежит печать избранности, но избирают его не светлые небесные духи зырянской шаманской лествицы, а тёмные хтонические боже- ства лесного царства. Зырянский «Лес» являл собой то сакральное, «таинственно-страшное» (П.А. Флоренский) пространство, которое излучало мощную позитивную и негативную энергию. Стражем порога священного лесного царства и монопольным знатоком его пространственной организации являлся колдун, который в силу своего маргинального статуса являлся посредником между различными сферами сакрального, между лесом и домом. Колдун как маргинальная личность являлся «своим среди чужих» в потустороннем священном лесном мире и «чужим среди своих» в домашнем микрокосме, где он воспринимался как исчадие иного мира, как воплощение изнаночной, оборотной стороны священного, его тёмной периферии [5, Теребихин Н.М., с. 27-28].
О значимой роли образа колдуна — носителя тайного знания — в коми-зырянском социуме свидетельствует тот факт, что «колдовская» эзотерика была усвоена даже наставниками старообрядческих общин. По свидетельству исследовательницы института наставничества в древлеправославной традиции коми В.В. Власовой: «В представлениях коми староверов о наставнике нашли отражение и христианский канон, и поверия, восходящие к архаическим традициям. С одной стороны, наставник следил за “чистотой веры”, читал и трактовал священные тексты, являлся лидером религиозной общины; с другой — обладал тайным знанием ( тöдысь )» [6, с. 67]. В этом отношении институт наставников у коми староверов самым принципиальным образом отличался от кодекса наставника, принятого в общинах русских старообрядцев Усть-Цильмы, у которых, по данным известной исследовательницы старообрядческой традиции Печорского края Т.И. Дроновой, наставники-духовники «не использовали заговоры и, таким образом, не являлись носителями “тайного” знания. Ворожба причислялась к числу тягчайших грехов и не соотносилась с наставническим служением» [7, с. 73].
Важное место в изучении истории и феноменологии института наставничества занимают исследования А.А. Чувьюрова, который раскрыл ключевую роль старообрядческих наставников в сохранении и передаче религиозного и этнокультурного наследия коми. По его словам, наставники выполняли функции посредника между староверческой книжной культурой и устной традицией коми [8, с. 453].
Особо значимый вклад в исследование древлеправославной традиции финноугорских этносов Русского Севера и Северо-Запада внесли фундаментальные труды О.М. Фишман, посвящённые изучению локальной группы тихвинских карел-староверов и их духовных лидеров-наставников («отче»). Исследовательница отметила «преемственность духовного водительства», которая «осуществлялась согласно старообрядческому канону по устному благословению старым наставником нового» [9, с. 255]. «Как посредники между верующими людьми и богом в окружающем их “чужом мире”, отче, видимо, осознавали свою избранническую роль, прежде всего, как служителей-исполнителей таинств крещения и исповедания, ежедневных и праздничных богослужений и треб» [9, с. 256]. Оценивая исследования О.М. Фишман в области карельского старообрядчества, И.Ю. Винокурова особо выде- ляет те разделы её изысканий, в которых представлена типология социальных лидеров-наставников и их антагонистов — персонажей колдовской периферии карельского этно-центрума [10, с. 166].
Столь высокий сакральный статус наставника старообрядческой общины в локальных и этноконфессиональных сообществах обусловлен симбиозом соборного строя староверческих общин со священной традицией земского самоуправления на Русском Севере, предполагавшим избрание своих духовных наставников и настоятелей из числа наиболее достойных соборян-земцев. Севернорусский мир как идеальная форма народного самоуправления, строившийся по заповеди «как мера и красота скажут», по законам божественного домостроительства, поражает удивительной простотой, соразмерностью, лаконичностью и в то же время симфоничностью, соборностью своего религиозного и социокультурного ландшафта, запечатлённого в изящной тринитарной формуле С.В. Юшкова «мир един, но троичен в своих проявлениях». Триединство северного мира проявлялось в трёх его ипостасях (приход, волость, община), которые по-разному выражали триалектику собора или совета мирян, являвшего собой нераздельное и неслиянное собрание человеческих личностей [11, Тере-бихин Н.М.].
В церковно-приходской организации северного земства-мiра особо значимое место занимали часовенные приходы-согласия, возглавляемые духовными наставниками — старостами (приказчиками). «Часовенный староста, избиравшийся на мирском сходе, осуществлял функции религиозной регламентации жизни северного сообщества. Старостой избирался человек, обладавший определённым знанием Священного Писания и Священного Предания, таинств и обрядов православной церкви, церковного календаря. В его обязанности входило также приглашение приходских священнослужителей для отправления молебнов в праздничные дни, хранение сакральной утвари, сбор пожертвований в часовенную казну, руководство общественными жертвенными пирами, в том числе выполнение функции жреца, совершающего жертвоприношение животного (барана) в ритуальной трапезе «бараньего воскресения», сбор денег за пользование часовенными пивоваренными котлами и т. д. Позднее, в раннесоветский период, от великой нужды в обязанности старосты входило совершение таинства Крещения и обряда отпевания. Выполнение этих религиозных функций наделяло часовенного приказчика высоким социальным и сакральным статусом духовного наставника, знатока и хранителя традиции — сокровенного знания законов небесного и земного мироустроения, воплощённого в пространственных формах сакральной семиосфе-ры северного мира» [12, Мелютина М.Н., Теребихин Н.М., с. 34].
В традиционных локальных сообществах Поонежья и Онежского Поморья (территория современного Кенозерского национального парка) институт наставников — хранителей местных святынь — контаминируется с институтом бабушек — «божественных старушек», выполнявших важные социокультурные функции контроля (цензуры) за соблюдением норм,
ОБЗОРЫ И СООБЩЕНИЯ
Теребихин Н.М., Мелютина М.Н., Яковлева А.В. Институт наставничества … правил, обычаев и заповедей правильного ритуального и обыденного поведения в священном пространстве северного земства-мира.
«”Бабушки” как представительницы маргинальной области “живых” предков владели сакральными знаниями, что определяло их статус хранительниц метафизических рубежей человеческого бытия, “стражей порога” и воплощённой “цензуры коллектива”. Кенозерские и поморские бабушки являлись руководительницами и участницами обрядов жизненного цикла, окказиональных и календарных обрядов, в которых воспроизводились пороговые ситуации встречи и прощания, перехода границ и смены онтологического статуса. Бабушки исполняли / исполняют роль хранительниц священных мест — ключевых топосов сакрального ландшафта севернорусского локального социума (мiра)» [13, Теребихин Н.М., Мелютина М.Н., с. 322]. В староверческой традиции Поонежья служение в часовне было мужским занятием. Однако после Великой Отечественной войны функцию приказчиков-старост начинают исполнять «божественные старушки», которые истово соблюдали древнерусскую, восходящую ещё к языческим временам традицию почитания только «своих» священных древностей, запечатлевших образ «своего», «домашнего», «деревенского» («запазушного» - по выражению Н.С. Лескова) «русского бога»: «Весьма показателен в этом отношении обычай поклоняться только своим иконам, который восходит к обычаю поклоняться своим богам (идолам) в языческом культе» [14, Успенский Б.А., с. 182]. Подобное же представление о храме и иконе как о жилище и вместилище «своего бога» бытовало и в Кенозерье. «В каждой деревне свой богушко», — говорили жители Озерного края.
По свидетельству Артемьевой (Подосеновой) Нины Николаевны, «за Никольской часовней в деревне Бухалово смотрела Катерина — старая бабушка, по-деревенски Матренина. Верующая была, всё время ходила в часовню, молилась, пела молитвы, жила в маленькой избе-заднюхе. Жила долго, ходила с батогом, посты все соблюдала» 1.
«Стояла часовенка в деревне Бор, так мы ходили, тогда уж перестали веровать в Бога, а мы ходили с мамами, с бабушками в Пасху, Всеношную на всю ночь ходили. Служил Все-ношную старичок Тимоша, теперь нету давно уже», - вспоминали жители упразднённой в 1980-х гг. деревни 2. В 1960–1970-е гг. смотрительницей часовни апостола Иоанна Богослова была Александра Петровна Шишкина, затем присматривать за деревенской святыней стала Клавдия Федоровна Шишкина. В середине XX в. в святой роще деревни Шишкина местными жителями была построена часовня Тихвинской иконы Божьей Матери. В 1950–1960-е гг. смотрительницей часовни была Анна Егоровна Заляжная 3.
«
Несмотря на то, что церковь Святого Георгия Победоносца в селе Порженское была закрыта в 1930 г., «церковной сторожихой долго ещё была бабушка Анна Курмина», — свидетельствует записавший эту информацию в 1958 г. фольклорист Ю.И. Смирнов 4.
В 1920–1930 ‑ х гг. добровольным помощником почезерских священников была Ирина Васильевна Патракеева (1900–1990). Уроженка деревни Филипповской, Ирина Васильевна и после закрытия храмов в Почезере продолжала присматривать за погостом. По архивным документам середины XX в. известно, что «на территории Ряпусовского сельсовета имеется маленькая церковь или часовенка, в которую ходят верующие молитвы творить, оставляют жертвоприношения вещами (платки, атласник, много очень пелён с крестами, полотенца и т. д.), шерстью, частично — деньги и т. д. Руководит этим делом старушка Максимова…». В письме, написанном в 1951 г. представителям местной власти, следует указание: «В Ряпу-совском сельсовете церковь действует незаконно, т. к. не разрешена к открытию. Прошу Вас предупредить гражданку Максимову, чтобы она немедленно прекратила совершение религиозной службы культа. Если гр. Максимова при совершении религиозной службы собирала деньги лично для себя, сообщите финансовым органам для обложения её подоходным налогом. Как использовать вещи: полотенца, платки и др., должна решить гр. Максимова совместно с теми лицами, которые приносили в церковь эти вещи. Церковь немедленно необходимо закрыть на замок и ключи хранить в сельсовете» 5.
«Церковной сторожихой» церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы в деревне Лопшеньге по своей воле была и жительница Онежского Поморья Маремьяна Осиповна Майзерова (1893–1972), информацию о которой записала фольклорист Н.И. Рождественская 6.
Хранительницами часовен были: Александра Александровна Капустина и Анна Александровна Семенова (часовня св. Иоанна Богослова в д. Зехново), Валентина Фёдоровна Сивцева (часовня св. Антония Сийского в д. Поромское), Кулакова Анастасия Фёдоровна, Соснина Мария Филипповна (часовня Казанской Божией Матери в д. Минино), Анна Лаврентьевна Глущевская (часовня Собор Пресвятой Богородицы), Евдокия Гавриловна и Степанида Гавриловна Нечаевы (часовня святого благоверного великого князя Александра Невского в д. Климовская (Бор), Павла Ивановна Привалихина (часовня Введения Богородицы во храм в д. Рыжково) [12, Мелютина М.Н., Теребихин Н.М.; 15, Мелютина М.Н., Теребихин Н.М.].
Источники второй половины XX в. позволяют сделать вывод о преемственности функций старосты, передачи «службы из рук в руки» членам одной семьи.
Хранительница часовни апостола Иоанна Богослова в деревне Зехнова Александра Александровна Капустина (1928–2023) рассказывала: «Часовня у нас числится XVIII века. Иоанн Богослов апостол Христов нашу деревню бережет. Ключ от часовни у свекрови Марфы Семёновны (Капустиной) долго жил, а потом свекровь стала худа, передала ключ другой ста- рухе, а та тоже стала худа. Она говорит мне: “А на-ка подружка и ключ от часовни”. Вот ключ у меня и сидит» 7.
Хранителем деревянной часовни Иоанна Богослова XVIII в. в д. Зехнова стала Анна Александровна Семенова (1928–2017). Её рассказ о том, как удалось сохранить «часовенку» в деревне Зехнова, является примером преданности местных жителей старинному часовенному укладу: «Часовню должны были разобрать и увезти, самолёт прилетел, лётчики сказали, что нужно часовенку сносить. Первая цепь прошла: школьники, учительница с ними, потом взрослые, и все так стоят кругом-кругом. Не даём часовенку вам и всё!» 8.
В 1940–1960-х гг. несколько жителей Лопшеньги — Василий Осеевич Петров, Егор Иванович Майзеров, Петр Степанович Майзеров, Семен Никифорович Федотов, Анна Егоровна Майзерова — собирали всех желающих в своих домах и «вычитывали Пасху». В домах хранили божницы с образами святых, переписывали молитвы от руки. Они также крестили и отпевали своих земляков «мирским чином». Новорождённых крестили Александра Тимофеевна Петрова (1890–1977), Клеопатра Петровна Юдина (1904–1993), Александра Михайловна Поздеева (1892–1967) [16, Харитонова Я.Э., с. 61]. Во многом благодаря подвижническому служению бабушек на ниве сбережения и передачи образов и образцов культурного наследия в Кенозерском национальном парке был сохранён не только уникальный природный и культурный ландшафт, но и весь целостный традиционный лад и уклад «священного космоса русской жизни» (В.Н. Топоров).
Сбережённая поколениями кенозерских и поморских хранителей веры и ревнителей древлего благочестия живая сакральная традиция является ценностно-смысловой опорой и духовной парадигмой наставнической деятельности Кенозерского национального парка, возрождающего идеологию и институты земского мироустроения, наставляющего и воспитывающего новое поколение лидеров и деятелей местного народного самоуправления.
В этом отношении Кенозерский национальный парк, исповедующий в своей наставнической миссии соборную идею соработничества и сотрудничества с местными сообществами, являет собой эталонную методологическую школу-лабораторию и творческую мастерскую социо- и геокультурного проектирования процессов и технологий пространственного развития и обустройства локальных территорий Северного макрорегиона.
За почти три десятилетия сложилась ярко выраженная культура участия жителей Ке-нозерья и Лекшмозерья во всех направлениях деятельности Парка. Местные сообщества сегодня — не просто «объекты» воздействия Парка, не пассивные «потребители» его деятельности, но активные субъекты всех социокультурных и социально-экономических процессов. Сотрудничество с местными сообществами базируется на принципах приоритета сохранения
ОБЗОРЫ И СООБЩЕНИЯ
Теребихин Н.М., Мелютина М.Н., Яковлева А.В. Институт наставничества … наследия перед его использованием и соучаствующего партнёрства и решает следующие задачи:
-
• максимальное информирование, формирование «открытого диалога» и общественного согласия по вопросам развития территории Кенозерского национального парка и ОВН;
-
• содействие развитию гражданских инициатив местных сообществ;
-
• активизация локальной экономики, создание альтернативных источников дохода, формирование инвестиционной привлекательности и развитие предпринимательской культуры;
-
• развитие профессиональных и личностных компетенций местного населения;
-
• повышение качества жизни людей.
Сотрудничество ведётся по следующим направлениям:
-
• сохранение историко-культурного наследия и возрождение традиционной народной культуры;
-
• охрана природы и экологическая безопасность территории;
-
• развитие устойчивого туризма;
-
• социально-экономическое развитие и формирование гражданского общества.
Сохранение историко-культурного наследия и возрождение традиционной народной культуры — одна из ключевых задач Кенозерского национального парка. В её реализации деятельное участие принимают представители местного сообщества, которому возвращена его исконная, изначальная роль главного деятеля в сферах, связанных с возрождением, сбережением и рачительным использованием традиционного природно-культурного наследия севернорусского мира. Кенозерские «изящные мастера»-плотники, искусные в деревянном художестве, соучаствуют в благородном деле восстановления (реставрации) всего священного архитектурного ансамбля заповедной территории Парка. Отреставрированные памятники деревянного зодчества переходят в пользование местных сообществ, которые становятся носителями ключевой социокультурной миссии творцов и хранителей наследия. В Ке-нозерском национальном парке, опирающемся на этнокультурную традицию локальных и этнических сообществ Русского Севера, осуществляется продуктивная систематическая работа по сохранению и возрождению традиционных промыслов и ремёсел, цикла календарных праздников и обрядов, организации и проведению ярмарочных действ и фольклорных фестивалей.
Успешно функционируют три Центра промыслов и ремёсел, организованы четыре разновозрастных фольклорных коллектива, работают гончарная, кузнечные, столярные и другие мастерские, создана эффективная система сувенирного производства местными жителями, восстанавливаются традиции природопользования и предлагаются в качестве «соучаствующего турпродукта».
Лейтмотивом туристической деятельности Кенозерского национального парка стало развитие событийного туризма. Сегодня с непосредственным участием местных жителей восстановлены и с каждым годом всё успешнее проводятся такие праздники, как Васильев день, Рождество, Масленица, День Сорока Святых, Петров день, Иванов день (Иван Купала), становятся всё более популярными среди посетителей и жителей Парка Успенская ярмарка и Фестиваль Традиционных Знаний. Важно, что это не искусственная реконструкция, а именно возрождение, основанное на тщательном изучении исторического материала. Без пробуждённого интереса местных жителей к собственным традициям, без их постепенно возрастающего активного участия в праздниках, ярмарках невозможно было бы говорить о подлинности таких мероприятий и о живой культуре территории.
Музейно-выставочная Деятельность национального парка направлена не только на посетителей, но и на местное население. Жители участвуют в создании музеев и экспозиций, передают Парку предметы, фотографии, делятся своими воспоминаниями и знаниями. Музейный фонд национального парка в основном состоит из предметов, переданных местными жителями, отражающих духовную и промыслово-бытовую культуру территории. Кроме того, в рамках исследовательской программы «Паспортизация деревень» у местного населения фиксируется информация об истории деревень, их жителях, основных занятиях, интересных событиях. Предметы дополняются цифровыми копиями фотографий и иного иллюстративного материала из семейных архивов, а также служат основой для создания музеев и экспозиций, экологических троп, этнографических программ и экскурсий, публикаций и т.д.
Охрана природы и экологическая безопасность территории
Обеспечить эффективную охрану природы и экологическую безопасность территории без участия местных жителей невозможно. Поэтому с момента образования Кенозерского национального парка этому направлению уделяется особое внимание. Обо всех изменениях законодательства и режима охраны территории жителям сообщается не в уведомительном порядке, а в формате живого диалога. Как минимум два раза в год происходят встречи и собрания с охотниками и рыболовами, проживающими на территории Парка. Постоянно проводятся и индивидуальные консультации. Разъяснительные материалы, комментарии размещаются на информационных ресурсах Парка, в Визит-центрах, в администрациях муниципальных образований. Местные жители становятся ценными информантами о состоянии флоры и фауны, сообщают о встречах редких и краснокнижных видов, что создаёт благоприятные условия для ведения научных исследований. В 2000-е гг. стали возможными и показали свою эффективность рейды по охране территории совместно с активными местными жителями. К сожалению, в последние годы такая практика не распространена, но требует переосмысления и возобновления. Важным примером сотрудничества с местными жителями для сохранения благоприятной окружающей среды является работа по снижению замусоривания территорий твёрдыми коммунальными отходами.
Развитие устойчивого туризма
Основной экономической целью развития устойчивого туризма в Кенозерском национальном парке становится создание новых рабочих мест и разработка механизма распределения экономических выгод от туризма в пользу местных сообществ. Сотрудничество с местными жителями в сфере развития устойчивого туризма реализуется по следующим направлениям:
-
• сельский гостевой туризм;
-
• экскурсионное обслуживание, проведение мастер-классов и этнографических программ;
-
• транспортные услуги;
-
• услуги питания и реализация сельскохозяйственной продукции;
-
• производство и реализация сувенирной продукции;
-
• проект «Модельное сельское подворье».
Туризм на территории Кенозерского национального парка сегодня — ведущая отрасль экономики. Кроме штатных сотрудников Парка, проживающих на территории, около 200 местных жителей участвуют в различных направлениях туристической деятельности. Согласно социологическому опросу местного населения, проведённому Северным (Арктическим) федеральным университетом им. М.В. Ломоносова в 2014 и в 2019 гг., около 70% жителей Кенозерья положительно относятся к тому, что на территории их проживания развивается туризм.
Социокультурное развитие местного сообщества
С самого начала своей деятельности Кенозерский национальный парк идёт по пути реализации идеи устойчивого жизнеобеспечения местных жителей. Вектор развития — сохранение и поддержка коренного населения, вовлечение его в деятельность Парка. Именно здесь появлялись первые Общественные советы в 1990-е гг., первые ТОСы (территориальные общественные самоуправления) в 2000-е. С главной целью — наладить диалог и вовлечь людей в совместное управление территорией.
Своевременный переход от попыток решить все проблемы местных жителей к выстраиванию партнёрских отношений и вовлечению в деятельность Парка принёс свои результаты. Инструменты применяются самые разные: от сельских сходов до тренингов по бизнес-планированию, от тотального информирования до индивидуальных консультаций. Одно из самых значимых событий в течение года — традиционные «Зимние встречи», которые проводятся уже более 10 лет, — это площадка для открытого диалога жителей и руководства Парка, обсуждения наиболее значимых тем.
Сегодня в Парке активно действуют четыре ТОСа в д.д. Вершинино, Морщихинская, пос. Поча и Усть-Поча. С начала 2000-х гг. был реализован ряд комплексных проектов,
ОБЗОРЫ И СООБЩЕНИЯ
Теребихин Н.М., Мелютина М.Н., Яковлева А.В. Институт наставничества … направленных на формирование благоприятного предпринимательского климата, развитие экономического мышления местного населения. Многие начинания стали устойчивыми.
Однако к середине 2010-х гг. взятый высокий темп в сотрудничестве с местными жителями стал несколько угасать. Созданные в Парке ТОСы перестали играть заметную роль. Задача социально-экономического развития осталась, но понадобились другие инструменты решения. Среди наиболее эффективных — семинар «10 шагов к успешному проекту», который проводится с 2015 г. в партнёрстве с Правительством Архангельской области. На нем под руководством опытных экспертов местные активисты работают над своими проектными идеями, учатся ставить цели и задачи, формулировать проблемы, планировать расходы. Ключевой момент — лучшие проекты получают финансовую поддержку от Парка, а также организационное сопровождение на этапе реализации. За пять лет реализованы 16 социокультурных проектов, среди которых такие значимые, как «Поча. XX век», «В стиле советский модерн» в п. Усть-Поча, ремонт мостов и домов культуры, создание музеев и общественных центров, благоустройство территорий и многое другое.
Пошёл долгожданный процесс принятия решений «снизу вверх». Успешность проектов развития сельских территорий находится в прямой зависимости от непосредственного участия местного населения в их разработке и реализации. Освоив инструменты социального проектирования, жители стали активно участвовать в различных грантовых конкурсах регионального и федерального уровня, получая экспертную поддержку сотрудников Парка на всех этапах. Ежегодно организуются стратегические сессии, где подводятся итоги совместных действий жителей, Парка и местных органов власти, идёт текущее и среднесрочное планирование. В 2020 г. была зарегистрирована новая автономная некоммерческая организация в п. Усть-Поча — «Кенозерские берега». Таким образом, сегодня в населённых пунктах Кенозерья реализуются комплексные многолетние проекты, действительно меняющие жизнь в деревнях к лучшему. Люди поверили в свои силы, ТОСы вновь стали «движущей силой» территории, но на новом уровне. Растет объём привлеченных активистами средств на территорию: в 2018–2020 гг. эта цифра составила почти 9 млн рублей. С учётом нефинансового вклада и волонтерского труда, стоимость проектов местных жителей за три года достигла 15 млн рублей. И если в 2014 г., согласно соцопросу, проведённому САФУ им. М.В. Ломоносова, менее 30% жителей Кенозерья оценивали деятельность ТОС хорошо и отлично, то в 2019 г. положительных оценок более половины.
Многогранная деятельность парка по сбережению, осмыслению и передаче образцов и эталонов социо- и геокультурного наследия локальных и этнических сообществ Севера раскрывает высокую наставническую миссию Кенозерского национального парка, являющего собой пространственную икону Русского Севера, его запечатлённую в священном природно-культурном ансамбле Меру и Красоту, наставляющую насельников северного Края Земли строить свой жизненный мир, обустраивать свою земную отчину («земство») по образу и подобию своего чаемого небесного Отечества — Земли Обетованной.
Список литературы Институт наставничества в социокультурном пространстве русского Севера и русской Арктики: традиции и новации
- Аванесов С.С. Сакральная топика русского города // ПРАЕНМА. Проблемы визуальной семиотики. 2006. № 1. С. 71-114.
- Дугин А.Г. Этносоциология. Москва: Академический проект, 2011. 639 с.
- Хомич Л.В. Шаманы у ненцев // Проблемы истории общественного сознания аборигенов Сибири / Отв. ред. И.С. Вдовин. Москва: Наука, 1981. С. 5-41.
- Лар Л.А. Шаманы и боги. Тюмень: Институт проблем освоения Севера СО РАН. 1998. 126 с.
- Теребихин Н.М. Метафизика Севера. Архангельск: СОЛТИ, 2020. 516 с.
- Власова В.В. Старообрядческие группы коми: конфессиональные особенности социальной и обрядовой жизни. Сыктывкар: Коми НЦ УрО РАН, 2010. 172 с.
- Дронова Т.И. Русские староверы-беспоповцы; Конфессиональные традиции в обрядах жизненного цикла (конец XIX - XX вв.). Сыктывкар: Коми НЦ УрО РАН, 2002. 276 с.
- Чувьюров А.А. Роль старообрядческих наставников в воспроизводстве, эволюции и передаче религиозного опыта в среде коми старообрядческого населения // Рябининские чтения — 1999. Материалы III Междунар. науч. конф. (Петрозаводск, 20-24 сентября 1999 г.). Петрозаводск, 2000. C. 443-453.
- Фишман О.М. Жизнь по вере: тихвинские карелы-старообрядцы. Москва: «Индрик», 2003. 408 с.
- Винокурова И.Ю. Тихвинские карелы-старообрядцы в исследовании О.М. Фишман // Труды Карельского научного центра РАН. 2011. № 6. С. 163-167.
- Теребихин Н.М. Земская традиция как особо ценное нематериальное культурное наследие Русского Севера (сакральная география и геософия севернорусского мiра) // Арктика и Север. 2023. № 50. С. 272-285. DOI: https://doi.org/10.37482/issn2221-2698.2023.50.272
- Мелютина М.Н., Теребихин Н.М. Социально-культурный ландшафт северного мiра // Труды Карельского научного центра РАН. 2012. № 4. С. 25-37.
- Теребихин Н.М., Мелютина М.Н. «Институт бабушек» в русской народной культуре сельского населения Поонежья и Онежского поморья (по материалам Кенозерского национального парка) // XIII Конгресс антропологов и этнологов России: сб. материалов. (Казань, 2-6 июля 2019 г.). Москва; Казань: ИЭА РАН, КФУ, Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2019. С. 322.
- Успенский Б.А. Филологические разыскания в области славянских древностей. Москва: Издательство Московского университета, 1982. 248 с.
- Мелютина М.Н., Теребихин Н.М. Сакральный ландшафт Кенозерья. Архангельск: СОЛТИ, 2013. 203 с.
- Харитонова Я.Э. Религиозный фактор в жизни крестьян Летнего берега Белого моря // Маршрут «Архангельский север особого назначения» / Сост. О. Воронова. Архангельск, 2018. С. 58-61.