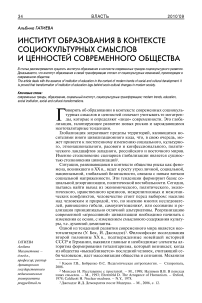Институт образования в контексте социокультурных смыслов и ценностей современного общества
Автор: Гатиева Альбина Магаметовна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Тема
Статья в выпуске: 9, 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается сущность института образования в контексте современных трендов социокультурного развития. Доказывается, что институт образования в своей трансформации отстает от социокультурных изменений, происходящих в современном обществе.
Современные тренды, образование, социальный институт, социокультурные трансформации
Короткий адрес: https://sciup.org/170165513
IDR: 170165513
Текст научной статьи Институт образования в контексте социокультурных смыслов и ценностей современного общества
Г оворить об образовании в контексте современных социокультурных смыслов и ценностей означает учитывать те мегатренды, которые и определяют «лицо» современности. Это глобализация, галопирующее развитие новых рисков и зарождающиеся неототалитарные тенденции.
Глобализация затрагивает пределы территорий, являющихся носителями иного цивилизационного кода, что, в свою очередь, может привести к постепенному изменению социального, культурного, этнонационального, расового и конфессионального, политического ландшафтов западного, российского и восточного миров. Именно столкновение сценариев глобализации является сущностью столкновения цивилизаций1.
Ситуация, развивающаяся в контексте общества риска как феномена, возникшего в XX в., ведет к росту угроз личной, социальной, национальной, глобальной безопасности, связана с новым витком социальной напряженности. Эти тенденции формируют базис социальной дезорганизации, политической нестабильности. Сегодня, пытаясь найти выход из экономического, политического, экологического, нравственного кризисов, межрелигиозных и межэтнических конфликтов, человечество стоит перед выбором: насилие над человеком и природой, что, по мнению многих исследователей, равноценно гибели, самоуничтожению2, или осознание и реализация принципиально отличной альтернативы. Реорганизацию современной «агрессивной» цивилизации необходимо начинать с изменения ее основ, с изменением смыслового содержания культуры, т.е. духовной доминанты.
Одной из тенденций развития современного мира является неототалитаризм (У. Бек, И. Джохадзе)3. Философские исследования второй половины ХХ в., подтвержденные новейшей историей СССР и Германии, выявили главные и необходимые элементы алгоритма формирования тоталитаризма, который возникает, когда из общества «выскабливается» последний человек, считающий се бя человеко м, идет массовизация общества и сознания. Механизм
«выскабливания», помимо прочего, состоял из средств массовой информации, института образования и структур производства и трансляции страхов.
К структурам производства и трансляции страхов мы отнесли и такой социальный институт, как образование. Ведь школа, образование – это поле, где на переломных моментах эволюции общества наиболее остро чувствуется проблема «старого» и «нового», происходит выбор типа личности, который уже неприемлем для пробуждающегося сознания, и того, который общество хочет видеть в своих новых поколениях. В обществах, находящихся на этапе стабилизации, школа, чтобы сдержать людей в очерченных властью рамках дозволенности, по мнению М. Фуко, превращается в дисциплинарное пространство. Дисциплина (и страх здесь есть метод дисциплинарного воздействия) направлена на нейтрализацию опасности и играет положительную роль при «изготовлении полезных инди-видов»1. Отсюда, продолжает М. Фуко, ее укоренение в самых важных, центральных и продуктивных секторах общества: военные функции, производство и передача знаний и трудовых навыков. Идея власти в сфере воспитания, доведенная до своего логического предела, нашла воплощение в возникновении так называемой «черной педагогики» ( Schwarzpadagogik ). Это направление пытается доказать, что в истории воспитания первичны потребность в подавлении и подчинении ребенка, произвол взрослых, с которым связаны ранняя дисциплина и нарциссическое превосходство воспитателя2.
Но даже если не вдаваться в «черную педагогику», которой, как считает основная масса преподавателей, нет и не может быть места в нашей системе образования, то все равно необходимо отметить: стимулом к обучению часто становится страх ученика – перед неправильным ответом, перед ошибкой, оценкой, звонком учителя родителям, страх быть наказанным или отчисленным. Остается непонятным, почему учитель имеет право на ошибку (по крайней мере, он сам так считает), а ученик – нет.
Страх, который парализует волю, эмо- ции и ориентирует человека на «принцип У2» («угадать и угодить») – принцип, минимизирующий возможность наказания и увеличивающий возможность быть «правильным» ребенком, имеющим индульгенцию на некое количество проступков, определяет ту или иную стратегию поведения. Страх парализует интеллект, ибо в школе человек усваивает, что есть правильный ответ, и это хорошо, и есть – неправильный, что, по своей сути, плохо, так как влечет за собой неизбежное наказание. Возмутительно и преступно еще и то, что человек с раннего возраста узнает, что правильный ответ вообще существует… и это в мире плюрализма, в мире различный методологических подходов, ракурсов и точек зрения! Необходимо говорить скорее не о правильном ответе, а о логике рассуждения, приводящей к тому или иному варианту ответа.
В ситуации социального транзита образование в еще большей степени превращается «в полигон борьбы за власть над душой и телом ребенка». При этом «власть, дисциплина, насилие, армия, казарма, война, где жизнь и смерть соприкасаются друг с другом, где достоинство человека подвергается постоянной проверке, оказываются в реальности рядоположенными воспитанию»3.
Можно предположить, что своеобразной антитоталитарной прививкой станет осознание человеком своей неповторимости, человечности. С середины 80-х гг. ХХ в. в России все чаще и чаще звучат призывы к «гуманизации образования», акцентирующие внимание на «индивидуальном подходе», на ориентации педагогического процесса на личность воспитуемого и обучаемого. Необходимо отметить, что подобные идеи как фикции всегда циркулировали в отечественной мысли, хотя, по сути, были утрачены.
Анализируя нашу проблему, необходимо помнить, что институт образования в ситуации социального транзита является единственным средством относительно контролируемого воздействия на новое поколение, а с другой стороны – фактором ускоренного или замедленного преобразования общества.
Институт образования имеет общие для разных эпох характеристики, составляющие его качественную определенность. К парадигмальным характеристикам культурно-исторического типа образования А.П. Валицкая относит: способы кодирования и передачи информации, принятые в культуре этого типа; образ учителя как носителя знаний, владеющего способами их передачи; представления о системе знаний, их роли в социуме и целях образования, определяющих критерии выбора необходимых образованному человеку сведений и умений; образ ребенка, представления о его природных качествах и возможностях их совершенствования, развития, коррекции1.
Названные параметры образования, считает М.М. Шульга, исчерпывают педагогическую аспектность этого социокультурного феномена, определяя его исторический тип (парадигму)2. На основе данного критерия традиционно выделяют три исторических парадигмы образования: гуманистическую, авторитарную и просветительскую. Элементом, определяющим всю систему принципов гуманистической парадигмы образования, становится образ ребенка и его путь в культуру. В центре авторитарной системы образования находится учитель как единственный субъект образовательного процесса. Для просветительской парадигмы образования характерно признание суммы знаний и умения пользоваться ими основным целевым ориентиром педагогического процесса3.
В настоящее время ясно видны изъяны современной системы образования. Во-первых, построенное для передачи специализированного иерархизированного знания пространство образования не справляется со своей задачей, так как объем знания не только значительно превысил возможности передачи его через канал образования, но и продолжает быстро увеличиваться. Во-вторых, массовость и демократизация образования приходят в противоречие с принципом иерархизированности учащихся по уровню усвоения знания. Школа вынуждена либо снижать критерий оценки, ориентируясь на слабоуспевающих учеников, либо делить школы на «элитарные» и «массовые». В-третьих, технократическая модель образования нацелена на обучение, а не на воспитание4.
Важнейшей причиной кризиса образования на рубеже тысячелетия, по мнению В.С. Гершунского, является традиционная для массовых образовательных систем преимущественная ориентация на трансляцию из поколения в поколение достижений науки. Такая трансляция есть пассивная передача накопленных научных фактов и их толкований, что позволяет только поддерживать на требуемом уровне знания, умения и навыки учащихся, необходимые и достаточные для реализации прагматично понимаемых жизненных целей и достижения весьма ограниченно трактуемого жизненного успеха в критериях материальных приобретений и потребительских устремлений. В системе этих критериев главное – найти свою индивидуальную нишу в структуре общественного разделения труда. Эти функции дополняются утилитарно полезными приспособительными механизмами безропотного конформизма и покорности перед лицом всесильного государственного монстра, бездушного экономического прессинга неумолимых рыночных отношений и не менее тяжелого духовного прессинга со стороны официальных идеологических доктрин, безапелляционных религиозных догматов, традиционных национально-этнических обычаев и ритуалов поведения5.
Рассматривая такие признаки социального института образования, как соотношение процессов обучения и воспитания, а также содержание, взаимоотношение элементов внутри системы и вне ее, российские исследователи выделили симптомы назревающих в нем качественных (парадигмальных) изменений. Это несоответствие «результата» заказанному «продукту»; недовольство существующей образовательной системой со стороны общества; снижение статуса тех, кто учит; тенденция получения образования вне существующего института образования.
Впервые в истории человечества просвещение как доминанта развития социума возникает в канун Нового времени, времени, которое было освещено «ньютоновской революцией», верой в силу разума, гармоничность мира и собственное могущество. Масоны, ставившие своей целью достижение вселенского счастья (одним из них был Ян Амос Коменский), на своих знаменах написали идею просвещения, ибо просвещенный разум может открыть «вселенский закон гармонии», адаптировать его к пониманию людьми и сделать всех счастливыми. К тому же кардинальные экономические изменения требовали от общества нового типа человека, приспособленного к посменной монотонной работе за станком.
Необходимо отметить, что до сих пор просвещенность, стремление понять и реализовать себя в том, что ты понял, осуществиться во всей полноте своих сил и потенций, превзойти себя не стали характерными чертами основной массы людей. А это позволяет говорить о том, что проект просвещения до конца не реализован в жизнь. Мы имеем лишь некий суррогат просвещения. Но именно отсутствие просвещенности и является основой социальной и политической манипуляции. Именно отсутствие просвещенности приводит, например, к деполитизации общества. Финский социолог Т. Тейвайнен доказывает, что современный гражданин все больше превращается в обывателя, в зрителя бесконечной интерактивной мыльной оперы, заменившей драму политического противостояния. Тем самым он постепенно утрачивает способность к самостоятельным политическим оценкам, к выбору, не говоря уже о самоорганизации1. Поэтому, прежде чем говорить о новых проектах, в частности и в педагогике, на наш взгляд, необходимо решить задачу, поставленную перед обществом и школой не одну сотню лет тому назад.