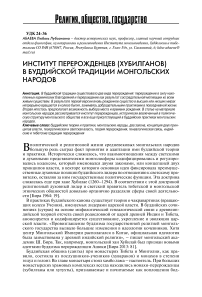Институт перерожденцев (хубилганов) в буддийской традиции монгольских народов
Автор: Абаева Любовь Лубсановна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Религия, общество, государство
Статья в выпуске: 11, 2016 года.
Бесплатный доступ
В буддийской традиции существовало два вида перерождения: перерождение в силу накопленных кармических благодеяний и перерождение как результат сострадательной мотивации ко всем живым существам. В результате первой версии вновь рожденное существо в высших или низших мирах непрерывно вращается в колесе бытия, занимаясь добродетельными практиками в повседневной жизни. Вторая ипостась предполагает возможность выбора места и времени рождения. В статье на материале монгольских народов рассматривается институт перерожденцев, исторически вовлеченный в политическую структуру монгольского общества и все еще присутствующий в буддийских практиках монгольских народов.
Буддийские теории и практики, монгольские народы, два закона, концепция двух принципов власти, теократическая и светская власть, теория перерождения, генеалогическая связь, индийские и тибетские традиции перерождения
Короткий адрес: https://sciup.org/170168200
IDR: 170168200 | УДК: 24-36
Текст научной статьи Институт перерожденцев (хубилганов) в буддийской традиции монгольских народов
В политической и религиозной жизни средневековых монгольских народов большую роль сыграл факт принятия и адаптации ими буддийской теории и практики. Исторически сложилось, что взаимоотношения между светскими и духовными представителями монголосферы кодифицировались и регулировались кодексом, который именовался двумя законами, или концепцией двух принципов власти, в векторе которого основная идея фиксировала преимущественные духовные позиции буддийского лидера по отношению к светскому правителю, оставляя за ним государственные политические функции. Эта доктрина сложилась еще при хане Хубилае (1260–1294). В соответствии с этой доктриной религиозный духовный лидер и светский правитель тибетской и монгольской этнических общностей довольно органично разделяли сферы своей деятельности [Бира 1964: 19].
В практиках буддийского канона существует теория о чакравартинах (вращающих колесо Учения), именуемых лидерами царской власти. В буддийских сочинениях (сутрах) на основе мифологической генеалогической связи с древнеиндийской теорией отсчета своей родословной от царей древней Индии и Тибета, анонсируется и кодифицируется существование, укрепление и эволюция царской власти. «Провозглашение буддизма государственной религией монгольского государства вызвало большие изменения в идеологии кочевников. Хотя центр Монгольской Империи располагался в Китае, официальная идеология была заимствована у древней индийской религии», – пишет монгольский академик Ш. Бира. Так, например, монгольский хан Хубилай был признан новыми адептами буддизма перерожденцем Ашоки [Бира 2013: 81].
Буддийская община (сангха) при монастырях Тибета и Монголии, как правило, состояла из послушников-учеников (хувараков) и монахов в степени гецул и гелонг. Во главе монастыря стоял хамбо лама – настоятель. При больших монастырских храмовых комплексах всегда находились монахи-перерожденцы (хубилганы или хутухты), признаваемые и почитаемые как воплощения бод- хисатв или живших когда-то великих ученых лам. Так сложилось, что главой буддийской церкви в Тибете считался далай-лама, хотя по духовной иерархии буддийского пантеона панчен-лама как перевоплощение (аватара) Будды Амитабхи считается выше. Институт далай-лам как непосредственная непре-кращающаяся линия перерождений формировался и окончательно сложился в Тибете в 1391 г. До 1959 г. далай-ламы считались носителями титула царя – правителя Тибета с центром в Лхасе, в то же время считаясь и высшими духовными иерархами страны. Далай-ламы до сих пор считаются земным воплощением бодхисатвы Авалокитешвары. В буддийской теории и практике после ухода действующего далай-ламы в мир иной (или нирвану) бодхисатва Авалокитешвара (монг. – Арьябала) «вселяется» в избранного новорожденного, которого находят по определенным признакам и который становится новым воплощением бодхисатвы Авалокитешвары, новым далай-ламой. Считается, что бодхисатвы, достигшие совершенного пути видения своих прошлых перерождений, реинкарнируются в силу своего сострадания к живым существам и молитв во благо всего сущего.
В учении Будды и последующих комментариях к ним фиксируется множество философских и сотериологических обоснований существования прошлой и будущей жизни индивида, которые в целом сводятся к четырем логическим доводам: «каждому объекту и явлению предшествует объект и явление того же типа; каждому объекту и явлению предшествует субстанциональная причина; в прошлом ум уже обладал знанием об объектах и явлениях; в прошлом у ума уже был опыт взаимодействия с объектами и явлениями» [Калсанг багша 2012: 5]. В буддийской традиции существовали 2 вида перерождения: перерождение в силу накопленных кармических благодеяний и перерождение как результат сострадательной мотивации ко всем живым существам. В результате первой версии вновь рожденное существо в высших или низших мирах непрерывно вращается в колесе бытия, занимаясь добродетельными практиками в повседневной жизни. Вторая ипостась предполагает возможность выбора места и времени рождения и даже будущих своих родителей. «Практика распознавания, кем является данное существо, на основе определения его прошлой жизни имела место еще при жизни Будды Шакьямуни», – свидетельствует Калсанг багша. «В четырех сводах Виная-питаки, в Джатаках, Сутре о мудрости и глупости, Сутре о сотне карм… Татхагата [имеется в виду Будда Шакьямуни] раскрывал действие кармы, рассказывая бессчетные истории о том, как следствия определенной кармы, накопленной в одной из прошлых жизней, испытываются человеком в настоящей» [Калсанг багша 2012: 8].
«В тогдашней Монголии учение о сильной царской власти имело с самого начала не абстрактно-философское, а сугубо практическое значение. С XVI в. под влиянием этой концепции сложилась традиция считать родоначальниками монгольских ханов царей древней Индии и Тибета. Поэтому в период цинского владычества представление монголов о себе как о части индо-тибетской культурной общности укрепляло представление об особенности Монголии от Китая в культурном и политическом развитии», – пишет Е.И. Лиштованный [Лиштованный 2007: 17]. Особенности взаимоотношений двух социально-политических сторон основывались еще на добуддийских религиозных традициях монгольских народов. Буддизм, как это ни странно, не только сделал воинственных монгольских ханов адептами буддийской теории и практики, но и способствовал концептуальному установлению теократической власти в Тибете и Монголии.
Хубилганы в монгольском мире представляли собой специфический этнорелигиозный феномен социального организма, одно из уникальных и многообразных проявлений функционирования этого многокомплексного, но все же религиозного института. Первый хубилган Джэбзун-Дамба хутухты родился в Халха-Монголии в 1635 г., т.е. спустя 50 лет после официального провозглашения буддизма доминирующей религиозной культурой в северных частях бывшей Монгольской империи и воздвижения халхаским Абатай ханом стационарного буддийского монастыря Эрдэни-Цзу.
При всей полноте и активности всех перерождений Джэбзун-Дамба хутухты его хубилганы непосредственно участвовали и в общественно-политической жизни монгольского социума того периода. Так, например, за устранение перманентных джунгарских выступлений за отделение Джунгарии от Китая императорский двор в 1757 г. наделяет Джэбзун-Дамба хутухту титулом «Благодетель одушевленных существ». Небезынтересно здесь отметить, что еще при императоре Канси первый хубилган Джэбзун-Дамба хутухты получил титул «Просветитель веры» [Позднеев 1898: 522]. Второй хубилган Джэбзун-Дамба хутухты уже становится «Просветителем веры, благодетелем одушевленных существ».
Выдающий религиозный деятель, скульптор и живописец Г. Дзанабадзара (1635–1723) считается первым перерождением Таранатхи – тибетского ученого и религиозного лидера (1575–1634), автора многих буддийских сочинений, в т.ч. известной «Истории буддизма в Индии». В.П. Андросов пишет: «Он [Таранатха] был одним из последних представителей школы буддизма в Тибете, которая называлась джонангпа [по названию монастыря, основанного в XIII в.]. В этой школе развивались преимущественно взгляды йогочары. В XVII веке все монастыри школы перешли к гелугпе» [Андросов 2000: 168]. Богдо-гэгэн Джэбзун-Дамба хутухта в своих 9 воплощениях Таранатхи считался верховным иерархом буддистов Монголии, Бурятии, Калмыкии, Тывы почти 400 лет. Монгольские, бурятские и тувинские буддисты традиционно почитают своего исторического верховного ламу – богдо-гэгэна Джэбзун-Дамба хутухту. В восьмом перерождении он считался и был последним великим ханом Монголии и в течение короткого времени управлял страной. После его кончины в 1924 г., после установления социалистического уклада жизни в Монголии и провозглашения Монголии Монгольской Народной Республикой было нежелательно искать его новые перерождения. Богдо-гэгэн Джэбзун-Дамба хутухта VIII имел в столице страны четыре дворца: Шарав-пэлжээлин (Зеленый дворец), Гунгаа-дэжэдлин (Белый дворец), Дэчин-галав (Желтый дворец), Хайстайн Лаврин (Хурээ) (Шафрановый дворец). К настоящему времени из них сохранились только два: Зеленый (в нем сейчас музей богдо-гэгэна) и Шафрановый.
Однако Богдо-гэгэн IX все же был достоверно выявлен в Тибете согласно буддийскому канону и, соответственно, традиции. После долгого перерыва, связанного с репрессивными акциями МНРП по отношению к буддийскому духовенству в целом и подавлением религиозных «поползновений» в частности, Богдо-гэгэн IX на непродолжительное время все же был признан теократическим лидером Монголии и монгольских народов. Как и его предыдущие перерождения, он сыграл и продолжает играть важную роль в культурном и религиозном развитии страны. Так, например, в бывшей его исторической резиденции (ныне – музей богдо-хана) 12 февраля 2016 г. в Улан-Баторе открылась выставка буддийской скульптуры и иконописи Богдо-гэгэна I – Занабазара (1635–1723). Его еще называли «Высоким святым» (Ондер гэгээн). Выставка приурочена к 380-летию со дня рождения Занабазара. В апреле в Будапеште, а в мае в Улан-Баторе состоялись международные конференции, посвященные этому событию. В последние годы богдо-гэгэн Джэбзун-Дамба хутухта проживал в Дхарамсале (в северной Индии) и имел множество монгольских, бурятских, калмыцких и тувинских учеников. Перед уходом он вернулся в Монголию. Следует отметить, что в традиции школы гелуг, как и в других буддийских традициях, в понимании классического буддизма, наряду с монашеской культурой, культурой практикующих буддистов-мирян, чтением мантр, совершением подношений в храмах и святых местах, обхождением святынь по кругу, медитативными и ритуальными практиками, все еще присутствует феномен института перерожденцев (тиб. – тулку; монг. – хубилган) – воплощения больших учителей, практиков, способных управлять процессом своего перерождения.
«У меня есть знаки того, что Халха Джецун Дамба Богдо-геген Ринпоче [монг. Богдо-гэгэн IX, Джэбзун-Дамба хутухта], переродится в Монголии», –заявил с улыбкой его святейшество Далай-лама XIV в ходе ежегодных учений для буддистов Монголии в Дхарамсале в Индии. При этом его святейшество отметил, что у него была «особенная связь с Джэбзун-Дамбой», духовным главой монгольских буддистов, с которым он познакомился в Тибете, когда ему было около десяти лет1.
Собственный политический и историко-культурный опыт в контексте конфессиональных традиций и их эволюции, приобретенный монгольскими народами на протяжении их существования, является, на наш взгляд, основным источником и катализатором их исторического развития. Монгольские народы в разные исторические периоды прошли достаточно долгий путь самостоятельного государственного развития. Политические традиции монгольских народов, кодифицированные в эпоху Чингисхана, а позднее санкционировавшие деятельность элиты буддийского духовенства (в основном хубилганов – хутухт) в качестве теократических лидеров, возникали и развивались на основе традиционного образа жизни кочевников, их мировоззрения, бытового уклада, оригинального и уникального кочевого наследия. Стремясь освоить этноконфессиональные параллели культур сопредельных территорий, в т.ч. и теократического Тибета, монгольская метаэтническая общность все же старалась внедрять инновационные феномены таким образом, чтобы они составляли гармоническое единство с их собственными историко-культурными и религиозными представлениями и достижениями. Однако при этом адаптация любого религиозного или этнокультурного феномена немыслима без кросскультурных взаимовлияний, без идеи преемственности на основе общих базисных эмоций и представлений.
Статья выполнена при поддержке Российского научного фонда в рамках научно-исследовательского проекта «Буддизм в социально-политических и культурных процессах России, Внутренней и Восточной Азии: трансформации и перспективы», №14-18-004444.
Список литературы Институт перерожденцев (хубилганов) в буддийской традиции монгольских народов
- Андросов В.П. 2000. Словарь индо-тибетского и российского буддизма: главные имена, основные термины и доктринальные понятия. М.: Вестком. 197 с
- Бира Ш. 1964. О золотой книге Ш. Дамдина. Улан-Батор. 108 с
- Бира Ш. 2013. Актуальные вопросы исследования истории монгольского государства. Улан-Удэ: Изд-во БГУ. 99 с
- Калсанг багша. 2012. Тибетские ламы-перерожденцы. История и современность. Улан-Удэ: Изд-во «Республиканская типография». 95 с
- Лиштованный Е.И. 2007. От Великой империи до демократии: очерки политической истории Монголии. Иркутск: Изд-во Иркутского ИГУ. 198 с
- Позднеев А.М. 1898. Монголия и монголы. СПб: Типография Императорской Академии наук. Т. I. 696 с