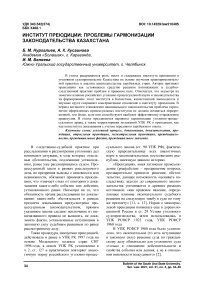Институт преюдиции: проблемы гармонизации законодательства Казахстана
Автор: Нургалиев Бахыт Молдатьяевич, Кусаинова Айман Кудайбергеновна, Беляева Ирина Михайловна
Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право @vestnik-susu-law
Рубрика: Проблемы и вопросы уголовного права, уголовного процесса
Статья в выпуске: 4 т.21, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье раскрываются роль, место и содержание института преюдиции в уголовном судопроизводстве Казахстана на основе изучения правоприменительной практики и анализа законодательства зарубежных стран. Авторы признают преюдицию как устоявшееся средство решения возникающих в судебно-следственной практике проблем в правовом поле. Отмечается, что несмотря на заметное влияние российских уголовно-процессуальной науки и законодательства на формирование этого института в Казахстане, казахстанский законодатель и научные круги сохраняют консервативное отношение к институту преюдиции. В период активного становления национального законодательства проблема гармонично оформленных процессуальных институтов не должна оставаться неразрешенной, тем более, если они способствуют наиболее эффективному отправлению правосудия. В статье предлагаются варианты гармонизации уголовно-процессуального права, а также корректировки положений УПК РК о преюдиции, как части института доказывания с учетом передового зарубежного опыта.
Уголовный процесс, доказывание, доказательства, преюдиция, отраслевая преюдиция, межотраслевая преюдиция, преюдициальность, преюдициальные факты, преюдициальное значение
Короткий адрес: https://sciup.org/147236555
IDR: 147236555 | УДК: 343.542(574) | DOI: 10.14529/law210405
Текст научной статьи Институт преюдиции: проблемы гармонизации законодательства Казахстана
В следственно-судебной практике при расследовании и рассмотрении уголовных дел возникают ситуации, в ходе которых отдельные обстоятельства, подлежащие установлению, ранее уже рассматривались судом. Процессуальный закон в рамках расследуемого дела, не предрешая выводы о виновности или невиновности, обязывает применять преюдицию, что означает отказ от повторного доказывания какого-либо события или действия, установленного ранее. Несмотря на то, что обязанность органа расследования по доказыванию каких-либо обстоятельств в рамках предмета доказывания предусмотрена процессуальным законодательством, прямым указанием закона сделано исключение из вышеназванного правила не выяснять, не доказывать факты, установленные вступившим в законную силу судебным решением по ранее рассмотренному делу.
Такая процедура, именуемая преюдицией, действовала и ранее в УПК РК 1997 года на основе Модельного кодекса стран СНГ 1996 года, в новом УПК РК установлена в ч. 2. ст. 127 и практически повторяет аналогичную норму российского уголовно-процес- суального закона (ст. 90 УПК РФ), фактическую прародительницу всех аналогичных норм в законодательствах постсоветских республик, имеющую давнюю историю.
«Преюдиция», имея латинское происхождение (praejudicium – предрешение вопроса, предварительно принятое решение, обстоятельство, дающее возможность оценивать последствия), задолго до современного законодательства упоминается в древних римских источниках «как правовое явление, определяющее влияние окончательного судебного решения на следующую тяжбу в суде по тому же предмету» [11, с. 13]. Норма о межотраслевой преюдиции появилась еще в дореволюционной России в ст. 29 Устава уголовного судопроизводства, затем использовалась в УПК РСФСР 1923 года, УПК РСФСР 1960 года
В УПК РСФСР 1960 года было установлено, что окончательное (то есть вступившее в законную силу) решение суда по гражданскому делу обязательно для уголовного суда «только в отношении действительности и свойства события или деяния, а не в отношении виновности подсудимого» [2].
Между тем современные словари латинский термин «prejudizialis» трактуют по-особенному, как «относящийся к прежнему судебному решению, то есть без предварительного решения которого данное дело не может быть разрешено судом» [7, с. 86]. Такое толкование отражает суть англосаксонского процесса, где преюдиция – это эффект предыдущего судебного решения, который установлен законодателем и прецедентом [9]. В то же время все словари этот термин объясняют через юридический подход, склоняя его смысл к состоявшемуся ранее судебному решению. Законодательство большинства зарубежных стран закрепило аналогичные нормы, ориентирующие правоприменителя не исследовать те или иные факты, истинность которых была установлена ранее иным судебным решением. Несмотря на некоторые исключения, по общему правилу, суды в целях экономии своего времени и времени участников процесса применяют ранее установленную информацию и факты без исследования.
Как в теоретическом [10], так и в практическом плане тема преюдиции имеет важное значение, несмотря на наличие исключительно противоречивой судебной практики, анализ которой убедительно показывает, что правоприменители иногда плохо знают суть преюдиции [9]. Налицо и противоречия законодательного плана, о чем свидетельствует реакция законодателя России: Федеральным законом от 29 января 2009 г. № 383-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» ст. 90 УПК РФ была существенно изменена.
Учеными подняты проблемы исследования производных от преюдиции терминов, таких как преюдициальность, преюдициальные факты, преюдициальное значение и т.п. Особенно остро стали обсуждаться проблемы междисциплинарного использования преюдиции как основополагающего базового термина. Отмечается, что правовая наука в настоящий период времени только лишь приближается к пониманию феномена преюдиции во всей его глубине, сложности и многообразии [4].
Не останавливаясь на обозначенных проблемах и актуальных вопросах этой проблематики, заслуживающих отдельного комплексного исследования, мы бы обратили внимание на те из них, которые, по нашему мнению, имеют практическое значение применительно к современной судебно-следственной практике.
Первую позицию по значимости, на наш взгляд, занимает проблема преюдиции в рамках уголовного процесса. Обращаем внимание на это прежде всего потому, что сам термин «преюдиция» законодатель использует только в одном из всех действующих в Казахстане процессуальных законов – уголовно-процессуальном. Ни в гражданско-процессуальном, ни в административном, ни в арбитражном кодексах преюдиция нормативно не закреплена. Но это не означает, что преюдиция не используется на практике при рассмотрении дел в рамках административного, гражданского или арбитражного процессов. Наоборот, именно в гражданском и арбитражном процессах наблюдается самая обширная практика применения этого института, как, впрочем, в большей степени полемизируется и в теоретических работах по этим направлениям.
Исходя из буквального толкования ст. 127 УПК РК можно понять, что законодатель, не давая понятия «преюдиция», раскрывает его межотраслевую сущность, предписывая обязательное использование вступившего в законную силу решения суда по гражданскому делу в рамках уголовного процесса,. Законодатель сделал существенную оговорку о том, что решения по гражданскому делу обязательны для органа, ведущего уголовный процесс, только по вопросу о том, имело ли место само событие или действие, и не должно предрешать выводы о виновности или невиновности подсудимого. То есть конструкция ст. 127 УПК РК сформирована для достижения процессуальной экономии, не позволяющей органу расследования проверять, оценивать и повторно доказывать ранее установленные факты, признанные достоверными и доказанными в решениях по ранее рассмотренным гражданским делам.
Несмотря на то, что большинство ученых-процессуалистов в этом видят большой плюс [1; 8], а законодательство многих постсоветских государств признают преюдицию как совершенное средство решения возникающих в судебно-следственной практике проблем в правовом поле, казахстанский законодатель остается консервативным на протяжении ряда десятилетий. Так, в УПК РК 1997 года в числе обстоятельств, устанавливаемых без доказательств, ст. 118 деклариро- вала только те обстоятельства, которые устанавливались вступившим в законную силу решением суда, если в рамках правовой процедуры не будет доказано обратное. М. Ч. Ко-гамов говорил о том, что такая «сухая» норма закона (п. 3 ч. 1 ст. 118) подразумевала, конечно же, преюдицию как общее правило, обязательность, неоспариваемость судебного решения, вступившего в законную силу … как в части установленных обстоятельств, так и в части их правовой оценки [5]. Аналогичную ситуацию мы наблюдаем и в гражданском процессуальном, и в административном, и в арбитражном законодательстве Казахстана.
В конце 2014 года Гражданский процессуальный кодекс РК (ГПК РК) был дополнен ч. 3-1 ст. 71, предусматривающей новое основание освобождения от доказывания. В соответствии с этим дополнением виновность лица в совершении административного правонарушения, установленная вступившим в законную силу постановлением суда по делу об административном правонарушении, не доказывается вновь при рассмотрении дела о гражданско-правовых последствиях совершенного этим лицом административного правонарушения. То есть было констатировано, что тем самым судебные акты по административным делам должны иметь преюдициальное значение в вопросах установления вины при разбирательстве споров в порядке гражданского судопроизводства. Надо отметить, что эта норма с незначительными изменениями «перекочевала» в новый ГПК РК 2015 года, но была уже дополнена существенными формулировками. Так ч. 2 ст. 76 ГПК РК уточняла, что обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением или постановлением суда по ранее рассмотренному гражданскому делу, обязательны для суда: такие обстоятельства не доказываются вновь при разбирательстве других гражданских дел, в которых участвуют те же лица. Эта же статья в ч. 3 уже обязала судей, рассматривающих дела о гражданско-правовых спорах граждан, учитывать вступившие в законную силу приговоры суда по уголовному делу, которым и признается право на удовлетворение иска.
В судебно-следственной практике встречается немало случаев, когда вступившие в законную силу приговоры используют по другому уголовному делу, применяя правила преюдиции, предусмотренные в ст. 127 УПК РК, хотя в самой норме такого положения нет.
Анализ этих незначительных изменений процессуального законодательства Республики показывает, что, несмотря на очевидное нежелание казахстанского законодателя использовать в своем правовом пространстве апробированные в других странах нормы преюдиции, он оставил широкое поле для последующего толкования и использования в различных сферах преюдициальных требований отраслевого и межотраслевого характера. То есть отсутствие законодательных запретов и обширная правоприменительная практика предполагают использовать решения, принятые в рамках рассмотрения гражданских дел -в новом гражданском, административном и уголовном процессах; приговоры, принятые в рамках рассмотрения уголовных дел, - в новом гражданском, а также административном процессах; решения, принятые в рамках рассмотрения арбитражных дел - в рамках рассмотрения уголовных и гражданских дел, а также в административном процессе.
В этом перечне мы не видим преюдицию применительно к использованию приговоров по ранее рассмотренным уголовным делам в новых уголовных процессах. Полагаем, что п. 3 ч. 1 ст. 118 УПК РК можно использовать не только в плане чисто отраслевой преюдиции, как например, решения, принятые в рамках рассмотрения уголовных дел (при рассмотрении новых уголовных дел), но и при применении в других отраслях, в том числе решения (постановления, определения) по арбитражным делам в уголовном, административном и гражданском процессах, поскольку словосочетание «решение суда», по нашему мнению, можно толковать широко, применительно ко всем отраслям процессуального права.
Такая практика принята как в российском законодательстве (ст. 90 УПК РФ), так и Беларуси (ст. 106 УПК РБ), Таджикистана (ст. 89 УПК РТ), Польши (ст. 8 УПК РП), Украины (ст. 128 УПК РУ) и Грузии (ст. 73 УПК ГР).
Несмотря на то, что нормы о преюдиции, принятые российским законодателем, подверглись резкой критике учеными и правоприменителями, их конструкции заслуживают внимания и преломления на казахстанскую правовую действительность. Об этом свидетельствует относительная стабильность ст. 90 УПК РФ, которая за десятилетие с момента ее реконструкции не подверглась практически никаким изменениям. Как известно, преюдиция до 2009 года в уголовно-процессуальном законодательстве России являлась в основном отраслевой, распространяясь только на приговоры суда. И лишь в отдельных случаях акты гражданского судопроизводства имели преюдициальное значение в уголовном процессе [12]. Существенные изменения, внесенные в 2009 году в ст. 90 УПК РФ, позволили расширить преюдициальное значение диспозиции этой нормы, распространив ее на решения суда, принятые в рамках гражданского, арбитражного или административного судопроизводства, то есть данный институт, как и институт доказывания, стал межотраслевым, и правила о преюдиции стали носить межотраслевой характер. По существу, такая редакция ст. 90 УПК РФ существенно повысила эффективность реализации преюдиции в целом, устранив ограничение ее только рамками уголовного процесса. В этом смысле справедливо мнение российских ученых о том, что тем самым достигается главная цель института преюдиции, заключающаяся в обеспечении связи между процессами, в которых по существу устанавливаются и выясняются одни и те же фактические обстоятельства [6]. К тому же внесенными изменениями существенно повысилось значение преюдициальных обстоятельств, которые в такой редакции ст. 90 УПК РФ теперь признаются без дополнительной проверки судом, прокурором, следователем и дознавателем. Ранее они не признавались только судом, который был вправе при возникновении сомнений в преюдициальных обстоятельствах, не применяя преюдицию, сделать иные выводы.
Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что исторически на протяжении двух столетий, начиная с Устава уголовного судопроизводства 1864 года и до настоящего времени, в российском, советском и казахстанском законодательствах преюдиция как устоявшийся межотраслевой институт охватывала решения судов по гражданским делам, являясь обязательной как для прокурора, следователя и лица, производящего дознание, так и для суда по основному вопросу, возникающему по уголовному делу, – имело ли место событие или действие, но не в отношении виновности. То есть традиционно значение судебных решений по гражданским делам при разрешении преюдициальных ситуаций, возникающих в уголовном деле, в истории уго- ловного процесса признавалось, но в определенных границах.
Стоит отметить, что о повышении преюдициальных норм в казахстанском законодательстве и усилении приоритета уголовного судопроизводства перед гражданским, арбитражным и административным судопроизводством свидетельствует и то обстоятельство, что они, как и в УПК РФ, были помещены в раздел 3 («Доказательства и доказывание») – ст. 127 «Преюдиция», то есть не только с расчетом на правовое регулирование преюдиции в целом. Именно о таких ситуациях справедливо говорил В. П. Божьев, указывая «на повышение требований к тексту статьи, которая должна соответствовать находящимся в этом разделе УПК РФ базовым нормам о доказывании, доказательствах, их видах, содержании, форме и правилам оценки» [2]. Подтверждением такого вывода является и размещение в этом разделе в строгой иерархии, как и статья о преюдиции, других взаимосвязанных норм, регламентирующих не только обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу (ст. 113), но и перечень (ст. 115), собирание (ст. 122), закрепление (ст. 123), исследование (ст. 124) и оценку доказательств (ст. 125). И хотя преюдиция значится последней в этом разделе, она все-таки оказалась в числе статей о доказывании.
Нельзя не учитывать и тот факт, что большинство постсоветских государств в своем гражданском судопроизводстве сохранили устоявшиеся положения об обязанности для суда, рассматривающего дело в гражданском порядке, учитывать вступившие в законную силу приговоры суда по уголовному делу. Но в то же время институт преюдиции в процессуальном законодательстве может исполнять свое регулятивное предназначение только во взаимосвязи со всеми положениями о доказательствах и доказывании. Поэтому ст. 127 УПК РК не может превалировать над другими нормами, и ей не следует уделять особую значимость. Установленные при расследовании или в суде факты, имеющие преюдициальное значение, следует оценивать наряду с другими собранными доказательствами, и только, как этого требуют положения ст. 17 УПК РК, по внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся доказательств. То есть в судебном процессе судья должен иметь право на сомнение и вполне способен подвергнуть проверке любое доказательство, ес- ли оно у него вызывает неуверенность.
Любые доказательства не должны иметь заранее установленной силы, в том числе имеющие преюдициальное значение или установленные по правилам преюдиции. То есть преюдиция не может иметь безусловный приоритет и должна быть опровержимой, хотя в настоящее время она имеет в казахстанском уголовном судопроизводстве усеченный вариант.
Полагаем, что нормы казахстанского уголовно-процессуального законодательства о преюдиции необходимо привести в соответствие с нормами гражданского, арбитражного и административного судопроизводства, закрепив ее межотраслевой характер и с той целью, чтобы в судебно-следственной практике избежать каких-либо исключений из этого правила в рамках уголовного судопроизводства как по оценке приговора в целом, так и по отдельным его положениям, например, о переоценке доказательств, установленных обстоятельств дела и их доказанности.
Список литературы Институт преюдиции: проблемы гармонизации законодательства Казахстана
- Азаров, В. А. Преюдиция и внутреннее убеждение при установлении истины в уголовном судопроизводстве / В. А. Азаров // Известия Алтайского государственного университета. - 2013. - № 2. - С. 77-79.
- Божьев, В. П. Издержки системного характера при корректировке норм УПК о доказывании и преюдиции / В. П. Божьев // Законность. - 2010. - № 6. - С. 23-27.
- Воробьев, В. А. О необходимости учета ряда особенностей гражданского процессуального законодательства при применении межотраслевой преюдиции в уголовном процессе Беларуси / В. А. Воробьев // Фундаментальные и прикладные исследования: проблемы и результаты. - 2013. - № 4. - С. 290293.
- Заржицкая, Л. С. Феномен преюдиции в уголовном процессе (постановка проблемы) / Л. С. Заржицкая // Вестник Московского университета МВД России. - 2012. - № 6. -С.88-91.
- Когамов, М. Ч. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан. Общая и Особенная части / М. Ч. Когамов. - Алматы: Жет жаргы, 2008. - 888 с.
- Колоколов, Н. А. Новые правила пре-юдиции: как изменится практика (дискуссия) / Н. А. Колоколов // Уголовный процесс. -2010.- № 3. - С. 11-13.
- Крысин, Л. П. Толковый словарь иноязычных слов / Л. П. Крысин. - М., 2009. -846 с.
- Левченко, О. И. Преюдиция в уголовно-процессуальном праве / О. И. Левченко // Вестник Омского государственного университета. - 2010. - № 3. - С. 84-88.
- Максатов Н. Р. Правовые аспекты пре-юдиции в гражданском процессе Республики Казахстан. URL: https://www.zakon.kz/ 5011246-pravovye-aspekty-preyuditsii-v.html.
- Теория уголовного процесса: презумпции и преюдиции: монография / под ред. Н. А. Колоколова. - М.: Юрлитинформ, 2012. - 496 с.
- Чащина, И. В. Преюдиция в уголовном процессе России и зарубежных стран: сравнительно-правовое исследование: дис. ... канд. юрид. наук / И. В. Чащина. - М., 2011. -189 с.
- Щерба, С. П. Новый закон о преюдиции в уголовном процессе: сущность и значение / С. П. Щерба, И. В. Чащина // Уголовное право. - 2010. - № 3. - С. 103-107.