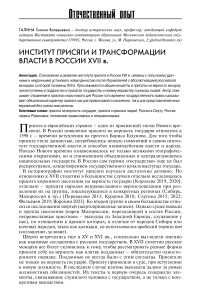Институт присяги и трансформация власти в России XVII в
Автор: Талина Г.В.
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 6, 2024 года.
Бесплатный доступ
Становление и развитие института присяги в России XVII в. связаны с попытками (удачными и неудачными) установить новую династию после Рюриковичей с абсолютизацией российской монархии со второй половины XVII в. Прослеживаются общие концепты в присягах на верность монарху при вступлении в подданство и присягах государству и своему ведомству служилых людей. Автор показывает отражение в присягах норм нового для России того времени государственного права и доказывает обязательный характер присяги как для православного населения, так и для представителей иных верований без смены ими религии.
Присяга на верность государю, присяга служилых людей, Россия в смуту, Россия первых романовых, положение православных и неправославных
Короткий адрес: https://sciup.org/170207780
IDR: 170207780 | DOI: 10.24412/2071-5358-2024-6-272-279
Текст научной статьи Институт присяги и трансформация власти в России XVII в
П рисяга в европейских странах – одно из проявлений эпохи Нового времени. В России появление присяги на верность государю относится к 1598 г. – времени вступления на престол Бориса Годунова. Для того чтобы присяга стала данностью, потребовалось немало изменений в самом институте государственной власти и способах взаимодействия власти и народа. Начало Нового времени ознаменовалось не только великими географическими открытиями, но и становлением объединенных и централизующихся национальных государств. В России сам термин «государство» еще не был распространен, олицетворением государственного начала выступал государь.
В историографии институт присяги изучался достаточно активно. По отношению к XVII столетию в большинстве случаев отдельно исследовалась присяга коренного населения на верность государю [Королева 2019; 2020], отдельно – присяги народов неправославного вероисповедания при разделении их на группы, локализующиеся в конкретных регионах (Сибирь, Малороссия и пр.) [Перевалова 2013; Курапов 2018; Слугина 2015; 2022; Фельдман 2019; Воронин 2023]. Ко второй группе в своем большинстве относятся исследования шертей (шертоприводные записи). Однако существовали и группы населения (евреи Малороссии, переходившей в состав России, неправославные христиане – выходцы из Западной Европы, служившие у нас), по отношению к присяге которых, в отличие от народов Сибири или кочевых народов, таких как калмыки, не использовался арабский термин šart (соглашение, условие).
Шерти встречались еще в XV и XVI вв., изначально выглядели именно как взаимные соглашения с русским государством. В XVII столетии русские монархи все более склонялись к тому, чтобы рассматривать разные формы присяги себе на верность как клятву подданных – обязательство одностороннего порядка. Подданные не всегда были с этим согласны. Присягали не только на верность государю. Присягу приносили в суде, при вступлении в новую должность. В последнем случае клятвы выходили далеко за рамки должностных обязанностей. Их тексты в первую очередь содержали элементы, связывавшие служилого человека с государством, а не только с конкретным ведомством.
Задачи нашей статьи состоят в комплексном рассмотрении присяг коренного православного населения и иноверцев новых российских территорий, а также присяг на верность государю и присяг должностных лиц. Учитывая, что понятие «подданство» в России появилось задолго до XVII столетия, а обязательная присяга для всех категорий населения установилась в Смуту (на стыке XVI и XVII вв.), важно найти те специфические особенности русской монархии, которые были свойственны именно XVII столетию и требовали развития института присяги.
Свидетельством того, что верховный правитель России Нового времени принципиально отличался от князей предшествующего периода, было выстраивание отношений между народом и им по типу подданства вместо личной верности. Немалую роль в закреплении отношений «государь – подданные» сыграло развитие концепта богоданной монархии – от правления Ивана III к правлению Ивана IV. Еще в посланиях Ивана Грозного Андрею Курбскому повиновение поданных царю трактовалось как залог предотвращения междоусобных браней. При этом царь не мог действовать по воле кого-либо из своих приближенных, например членов той или иной верхушечной группировки, неофициального правительства, такого как Избранная рада. Особый смысл подданства в опричный период определялся еще и тем, что, по мнению Грозного, землей владеет не самовластный человек, а Бог, царь же ответственен перед Богом как за свои грехи, так и грехи своих подданных [Русская социально-политическая… 2011: 269, 274]. Подчиняясь и служа царю, подданный фактически служил Богу. Отсутствие в этот период присяги государю как обязательного и строго регламентированного действа, возможно, объясняется восприятием монарха как проводника божественной воли, с одной стороны, и продолжателя единственной русской правящей династии – с другой.
Потрясения Смуты конца XVI – начала XVII в. привели к занятию престола избранными на земских соборах или их подобиях царями. Хотя и считалось, что волеизъявлением народа руководила божественная воля, относиться ко вчерашним аристократам-олигархам как к истинным царям было весьма сложно. Шаткость их положения требовала компенсации – подстраховки. С Борисом Годуновым связано становление присяги как обряда крестоцелова-ния. Обряд в первую очередь проходили все православные совершеннолетние мужчины по крестоприводным записям, присягавшие царю не только за себя, но и свою семью. С 1654 г. обряд крестоцелования был заменен принесением обязательств перед Евангелием. Церемония присяги сочетала в себе как религиозный, так и светский элемент [Королева 2019: 594-595].
Еще с 1645 г. (время присяги царю Алексею) на места рассылались царские грамоты с государевой речью для публичного оглашения присягавшим. Приводить к присяге население поручалось должностным лицам, присланным из Москвы. Принесение присяги жителями той или иной местности не было единовременным и могло растянуться на месяц с лишним. Издание в 1654 г. чиновника (чиновная книга) регламентировало несколько типов присяги, каждый из которых соответствовал разным случаям (переход в подданство, подтверждение подлинности показаний в церковном суде, поступление на важную государственную службу). Позднее, в 1681 г., в чиновную книгу были внесены отдельные исправления [Королева 2020: 78-81].
Если уход с политической арены Рюриковичей и переход власти к избранным царям (с Бориса Годунова до Михаила Романова) послужили катализатором становления института присяги, то его закрепление и дальнейшее разви- тие были предопределены уже иными факторами. Среди них абсолютизация власти и поднятие престижа службы государю (фактически – Российскому государству). Эта служба объединяла и исконно русских, и жителей ново-присоединенных территорий, и переходивших в наше подданство иностранцев. Для последних стимулом перехода на русскую военную службу с начала XVII в. служило развитие у нас полков нового строя, нуждавшихся в знающих инструкторах. После начала русско-польских войн середины XVII в. приток иностранцев усилился благодаря вхождению в состав России Левобережной Украины. Именно этот факт во многом стимулировал издание ранее упомянутого нами чиновника 1654 г. Благодаря службе присяга для населения, и особенно его высших и наиболее влиятельных категорий, превратилась из ритуала, соответствовавшего началу нового царствования, в обязанность, неразрывно связанную с продвижением по карьерной лестнице и принятием нового ответственного назначения.
Огромную роль в становлении присяги должностных лиц не ведомству, а государству сыграли создание нового отечественного законодательного свода Соборного уложения 1649 г. и начало становления в России государственного права. 31 августа 1651 г. была утверждена форма присяги разных чиновников, пока еще не имевшая приписей для конкретных должностей. Должностное лицо обязывалось служить вправду и без хитростей, оберегать здоровье государя, не желать иного правителя из других земель или русских родов, не бунтовать самому, своевременно извещать правительство о намечавшемся бунте (скопе и заговоре), биться с недругами за государя, не уезжать в иностранные государства без ведома царя, не изменять, не ссылаться с изменниками и иностранцами, а биться с ними до смерти, не воровать1. Покушение на жизнь и здоровье государя, измена, скоп и заговор относились к государственным преступлениям. Не совершать данные преступления, противодействовать тому, чтобы их совершили другие, – главные обязанности любого чиновного лица. Текст присяги образца 1651 г. фактически повторял нормы Соборного уложения.
Форма присяги разных чинов 1653 г., помимо основной, общей части, содержала приписи для членов Боярской думы, различных дворцовых чинов (кравчий, казначей, постельничий, ясельничий, конюшенные дьяки, стремянные конюхи государевой конюшни, спальники, стольники, стряпчие и пр.), дьяков2. Приписи имели весьма важное значение, характеризуя не только должностные обязанности, но и статус важнейших государственных учреждений (Боярская дума и приказы) в эпоху, когда регламенты (уставы) как нормативные документы, определяющие общий функционал ведомства, еще не вошли в практику (это произойдет только в эпоху Петра I). Так была зафиксирована ограниченная по сравнению с предшествующим периодом компетенция Боярской думы: «без государского ведома и мимо правды никаких дел не делати». Дума предстала как учреждение, подчиненное царю и выполнявшее его волю. Припись думным дьякам акцентировала их важнейшую обязанность – подготовку законодательных актов, обязала хранить проекты законов в тайне как от русских, так и иностранцев. Думные и разрядные дьяки, верша судные дела, клялись не руководствоваться мотивами дружбы или вражды, не брать взятки, не заниматься казнокрадством.
При рассмотрении неправославного населения в историографии не существует единого мнения по вопросу о том, являлся ли переход в православие необходимым условием принесения присяги и получения статуса подданого русского царя. Бесспорно, для эпохи Петра I принятие русского подданства не требовало смены вероисповедания [Русакова 2017: 206]. По отношению ко времени последних Рюриковичей и первых Романовых все не столь очевидно.
Расширение неправославного контингента явилось прямым следствием развития России с середины XVI в. по имперскому сценарию – вбирания в свой состав огромного количества новых территорий и нового населения. Для отношений Московского царства с государствами, образовавшимися после распада Золотой Орды, еще в XV в. были характерны соглашения – шерти (изначально шерти были присущи тюркским монархам Восточной Европы, Сибири, Казахстана и определяли взаимные обязательства). С усилением России шерти из обоюдного соглашения превратились в декларацию обязанностей младшего участника по отношению к старшему, что фактически сближало их с присягой. При вступлении на престол царя Алексея Михайловича в 1645 г. государевы стольники и подьячие приводили к крестному целованию на верность монарху православных, к шерти – иноверцев [Трепавлов 2007: 136-138].
На примере Западной Сибири при вступлении на престол Федора Алексеевича видно, что приказ, руководивший регионом (в данном случае – Сибирский) направлял грамоту с извещением о смерти одного и воцарении другого царя. От имени царя на места рассылались должностные лица, например стольники. Официальные представители центральной власти и разрядные воеводы приводили к присяге население столиц разрядов. В уездах проведение церемонии по поручению главного воеводы разряда возлагалось на подчиненных ему местных воевод. Для православных местом принятия присяги выступали соборные церкви, шертование иноверцев проходило рядом со съезжими избами. Согласно чину (сценарию) присяги православных, светская часть дополнялась религиозной, церемония начиналась с молитв и заканчивалась ими, духовенство как в центре, так и на местах играло свою роль в действе. Воеводские дьяки готовили списки присягающих, на их основании представители Москвы составляли крестоприводные и шертопривод-ные книги. Присяге и шертованию подлежало фактически все мужское население [Слугина 2022: 21-23].
Обязательства, даваемые неправославными, были весьма сходны с присягой православных подданных. Формуляры шертоприводных записей стали оформляться в начале XVII в. (в 1605 г. – присяга Василию Шуйскому). Уже в первой половине рассматриваемого столетия шертоприводные записи предписывали служить русскому государю, не призывая иных государей на Московское царство, не иметь сношений с неприятелями и изменниками, выступать в военные походы совместно с русским войском при одновременном ненападении на русские города и остроги. Важнейшей обязанностью неправославного населения России являлась выплата ясака, а шертопривод-ные записи называли народы, не обложенные ясаком, врагами [Слугина 2015: 23-26].
Смысл приносимой присяги во многом зависел от понимания и трактовки подданства. Так же, как в случаях с шертями (особенно раннего периода), Переяславский договор (статьи Богдана Хмельницкого) 1654 г. царской вла- стью и ее представителями, с одной стороны, и казаками – с другой, трактовались различно. Подданство как беспрекословное (отныне и до веку) исполнение воли высшей власти не было характерно для государств с избирательной монархией (Речь Посполитая, Священная Римская империя). Не удивительно, что Хмельницкий потребовал от воеводы В.В. Бутурлина присягнуть («учинить веру») за государя – поклясться от имени царя, что тот не выдаст гетмана и войско Запорожское польскому королю, не станет нарушать их вольностей. Для Бутурлина такой вариант был полностью неприемлем, «подданный повинен веру дати своему государю» [Таирова-Яковлева 2013: 37].
В абсолютизирующейся России второго Романова в отношениях власти и общества все более утверждался концепт «дело народа – просить государя и присягать ему». Это подтвердили и события 1674 г. в Речи Посполитой. После смерти Михаила Вишневецкого элекционный сейм должен был избрать нового короля из представителей правящих домов других стран, которые прислали своих послов и выразили согласие участвовать в выборах. Сейм проходил в условиях, когда на правобережье Днепра, признававшееся Москвой за Речью Посполитой, посягнули турки, а Россия начала против них военные действия. Интерес Москвы в защите данной территории в случае вступления на польский престол своего государя значительно бы возрос. Однако присоединиться к кандидатам, из которых элекционный сейм выбирал короля, Алексей Михайлович не пожелал. Напротив, он настаивал, чтобы «всенародный совет» Речи Посполитой принял решение об его избрании и направил своих послов в Москву. Жители Речи Посполитой должны были просить царя занять их трон. Поляки не стали изменять правил элекционного сейма и избрали королем Яна Собесского; литовцы, более всего ратовавшие за короля из России, были вынуждены поддержать их [Флоря 2015].
Тот факт, что самодержавный монарх не присягал подданным, не брал на себя какие-либо обязательства в рамках официальной процедуры, не означал отсутствия автономии новых регионов России. Однако ярко выраженная автономия по мере развития региона в составе Российской империи сходила на нет, а порядки исконных территорий, напротив, становились единственно возможными как в центре, так и на границах. В силу этого смысл присяги не оставался неизменным, зависел от времени и условий ее принесения.
Еще раз вернемся к вопросу о присяге русскому государю и обязательности перехода в православие. Не только массовое шертование подтверждает мысль, что присягали представители разных верований и конфессий. Во время войн России с Речью Посполитой и Швецией 1654–1667 гг. евреи («присяжные жиды») из завоеванных территорий Великого княжества Литовского оставались в своей вере, присягали на Торе. В ответ на челобитную гродненских евреев о желании быть под государевой рукою в июне 1656 г. царь Алексей Михайлович предписал тех жидов принимать и приводить к вере по их закону. В то же время в отношении евреев, попавших в русский плен, государственная политика в разные царствования разнилась. При Михаиле Федоровиче после Смоленской войны (1634 г.) группу таких евреев отправили в Сибирь, им было разрешено оставаться в нашей стране, не сменяя веру. В 1655 г. при Алексее Михайловиче пленных евреев переселили в Казань, стать посадскими людьми они могли, только приняв крещение [Фельдман 2019: 241-242].
Не пришлось, принося присягу русским государям Ивану и Петру Алексеевичам, сменять веру и московским торговым иноземцам английского происхождения Т. Кальдерману, И.Е. Марсову, П.Я и П.Ю. Вестовым
[Воронин 2023: 115-116]. Эти гости служили еще царям Алексею Михайловичу и Федору Алексеевичу и, как и все в Московском царстве, переприсягали при смене государя на престоле. Присяга приносилась в Посольском приказе на святом Евангелии в присутствии пастора А. Юнха и переводчика Посольского приказа с английского А.Ю. Крефта. Согласно документу, присяга на верность приносилась не только соправителям – самодержцам Ивану и Петру, но и их возможным наследникам, двум царицам – вдовам предшествующих царей Алексея Михайловича и Федора Алексеевича Наталье Кирилловне Нарышкиной и Марфе Матвеевне Апраксиной, теткам и сестрам государе-вым1. Культ царской фамилии установился в России еще при царе Алексее Михайловиче, закрепившем положение Романовых как династии. Писать в различных официальных документах огромное число членов правящего дома во второй половине XVII в. стало нормой. Согласно Соборному уложению, правильнее говорить не столько о преступлениях против жизни и здоровья государя, сколько о преступлениях против всех членов царской фамилии.
Перешедший в православие гораздо выше котировался в России. Между тем требовать этого перехода до присяги особой нужды не было. С одной стороны, чем больше присягнуло, тем больше становилось в нашем государстве подданных и занимаемых ими территорий, с другой – доказать необходимость постепенной смены веры государство могло и другими способами. В 1630 г. некрещенные иноземцы, находившиеся в ведомстве Поместного приказа, не могли отчуждать свои земли ни друг другу, ни русским без именного указа. В 1653 г. иноземцы получили право продавать свои вотчины русским людям, но был запрет на продажу некрещеным иноземцам. В 1654 г. некрещенным иноземцам владеть вотчинами было вовсе запрещено [Гессен 1909: 205].
В целом в России XVII в. присяга оформилась как особый и государственно значимый институт, неразрывно связывавший монарха и его подданных. Необходимость принесения присяги на верность монарху различными категориями населения была порождена слабостью выборных царей начала столетия, а закреплена усилением новой династии Романовых в эпоху становления в нашей стране абсолютизма. С последним было тесно связано становление государственного права, нормы которого клялись не нарушать присягающие. Для наиболее активной части населения России – служилых людей присяга на верность каждому новому государю дополнялась присягой при вступлении в должность, сочетавшей клятву государству и своему ведомству. Присяга на верность государю распространялась как на православное население, так и на представителей иных верований, для жителей только что присоединенных территорий присяга была пусть и формальной, но обязательной. Через присягу они приобщались к идее подданства русскому царю. Отсутствие обязательного требования, присягая, принять православную веру облегчало адаптацию к российской действительности.
Список литературы Институт присяги и трансформация власти в России XVII в
- Воронин И.К. 2023. Роль присяги при вступлении иностранцев в русское подданство (XV - начало XX века). - Ученые записки Казанского университета. Сер. Гуманитарные науки. Т. 165. № 4-5. С. 113-124.
- Гессен В.М. 1909. Подданство, его установление и прекращение. Т. 1. СПб: Типография Правда. 448 с.
- Королева М.В. 2019. Становление государственной присяги в России после Смутного времени. — Русь, Россия. Средневековье и Новое время. № 6. С. 593-596.
- Королева М.В. 2020. Процедура государственной присяги в России XVII века. — Древняя Русь. Вопросы медиевистики. № 4(82). С. 73-82.
- Курапов А.А. 2018. Буддийская обрядность в русско-калмыцких шертях-присягах и договорах XVII - начала XVIII века. - Вестник Оренбургского государственного педагогического университета: электронный научный журнал. № 2(26). С. 176-182. DOI: 10.32516/2303-9922.2018.26.12.
- Перевалова Е.В. 2013. Шерть, «медвежья присяга» и пляска с саблями. -Уральский исторический вестник. № 4(41). С. 120-131.
- Русакова Н.Г. 2017. Присяга при приобретении гражданства Российской Федерации иностранцами. — Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. № 4(40). С. 205-207.
- Русская социально-политическая мысль. XI — XVII вв. 2011. М.: Изд-во Московского университета. 728 с.
- Слугина В.А. 2015. Русская и «иноземческая» присяга русскому государю в Сибири в XVII в. — Актуальные проблемы исторических исследований: взгляд молодых ученых: сборник материалов Четвертой всероссийской молодежной научной конференции. Новосибирск: Параллель; Институт истории СО РАН. С. 20-28.
- Слугина В.А. 2022. Организация церемоний присяг на верность царю Федору Алексеевичу в Западной Сибири (1676 г.). - История России с древнейших времен до XXIвека: проблемы, дискуссии, новые взгляды: сборник статей международной научно-практической школы-конференции молодых ученых. М.: Институт российской истории РАН. С. 18-26.
- Таирова-Яковлева Т.Г. 2013. Представление украинской казацкой элиты о подданстве русскому царю. - Славяноведение. № 2. С. 34-40.
- Трепавлов В.В. 2007. «Белый царь»: образ монарха и представления о подданстве у народов России XV- XVIIIвв. М.: Восточная литература. 255 с.
- Фельдман Д. 2019. «...Им быть под нашею царского величества высокую рукою»: документы о принятии присяги и вступлении в российское подданство гродненских евреев в 1656 г. - Judaic-Slavic Journal. № 1(2). С. 237-249.
- Флоря Б.Н. 2015. Россия и элекция в Речи Посполитой 1674 года. - Средние века. Т. 76. № 1-2. С. 269-290.