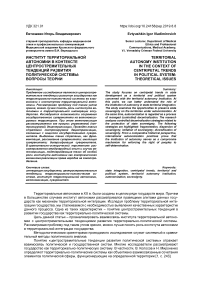Институт территориальной автономии в контексте центростремительных тенденций развития политической системы: вопросы теории
Автор: Евтюшкин Игорь Владимирович
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Политика
Статья в выпуске: 8, 2019 года.
Бесплатный доступ
Предметом исследования являются центростремительные тенденции развития государства как территориально-политической системы во взаимосвязи с институтом территориальной автономии. Рассматривая проблему под таким углом зрения, можно лучше понять роль института автономии в территориальной интеграции государства. Исследуются возможности сохранения государственного суверенитета на автономизируемых территориях. При этом автономизация рассматривается как процесс управляемой (контролируемой) децентрализации. Проведен анализ стратегий контролируемой децентрализации, связанных с защитой государственного суверенитета. Выделены такие стратегии, как фрагментация, рассеивание суверенитета; имитация суверенитета; диверсификация суверенитета. В сравнительно-исторической перспективе рассматриваются международный опыт и случаи автономизации, подтверждающие тезис об особой роли института автономии как компромиссного механизма реализации права народов на самоопределение.
Интеграция государства, центростремительные тенденции, территориально-политическая система, институт территориальной автономии, автономизация, суверенитет
Короткий адрес: https://sciup.org/149132526
IDR: 149132526 | УДК: 321.01 | DOI: 10.24158/pep.2019.8.8
Текст научной статьи Институт территориальной автономии в контексте центростремительных тенденций развития политической системы: вопросы теории
Территориальные автономии в XX в. были созданы в целом ряде государств мира. Причем в большинстве случаев институт автономии рассматривался правящими элитами данных государств как механизм территориальной интеграции. Исследуя проблему территориальной интеграции государства, мы сталкиваемся с необходимостью выявления качественных характеристик данного процесса. Одна из таких характеристик – понятие центростремительных тенденций в развитии государства как территориально-политической системы.
Цель данной статьи – проанализировать взаимосвязь института территориальной автономии с центростремительными тенденциями развития территориально-политической системы. Рассматривая проблему под таким углом зрения, можно лучше понять роль института автономии в территориальной интеграции государства.
Методологическими ориентирами проводимого исследования служат системный и сравнительный методы политического анализа.
Понятие «центростремительные тенденции развития политической системы» отражает взаимосвязь политической и государственной систем. Многие исследователи рассматривают государство как территориально-политическую систему. В частности, В. Колосов и Н. Мироненко определяют территориально-политические системы как объективно взаимосвязанные сочетания элементов политической сферы, функционирующие на определенной территории [1, с. 243].
Под центростремительными тенденциями развития территориально-политической системы мы понимаем особенности развития данной системы, ее свойства и характеристики, внутренние и внешние связи и взаимодействия, обеспечивающие консолидацию территориальных субъектов данной системы вокруг единого политического центра.
Проблему проявления центростремительных и центробежных сил в рамках государственной системы подняли представители функционалистского подхода в политической географии. Вопрос о роли центробежных и центростремительных сил в территориальной интеграции государства одним из первых сформулировал американский политический географ Р. Хартшорн. Возникновение центробежных сил в рамках государственной системы исследователь связал с фактором регионального своеобразия [2, p. 105]. Центростремительные силы в рамках государственной системы, по его же мнению, связаны с наличием государственной идеи, которая оправдывает существование данного государства, дает ему «причину для существования» [3, p. 110].
Рассматривая институт автономии с политологической точки зрения, мы исходим из гипотезы о том, что автономия – это институциональная матрица, с помощью которой политические акторы различного уровня реализуют свои политические интересы, ценности и смыслы. Таким образом, автономизация является управляемым процессом.
Центростремительная или центробежная направленность института территориальной автономии зависит от того, какие интересы и ценности доминируют в рамках автономии – центростремительные или центробежные, а также какие политические элиты контролируют автономию и какими ресурсами они располагают.
Политические элиты центрального уровня, допуская создание автономии в рамках территориально-политической системы, исходят из центростремительных интересов. Наделение региона статусом автономии может рассматриваться ими как компромиссный механизм сохранения государственного единства.
Интересы, ценности и смыслы региональных политических элит, участвующих в создании и функционировании территориальных автономий, могут быть как центростремительными, так и центробежными. Центростремительные ориентиры региональных политических элит обусловлены их объективной зависимостью от политического центра, располагающего несравнимо большими, чем регион, административными, экономическими и силовыми ресурсами.
Изоляционистскую, центробежную направленность имеют, как правило, ценности, отражающие этнополитическую и этнокультурную специфику регионального сообщества в системе отношений «центр – периферия». Как правило, речь идет об ориентирах региональных политических элит, связанных с созданием обособленных государственных образований в рамках соответствующего микрорегиона. Для обоснования необходимости самоопределения данного регионального сообщества используются этнические аргументы и ценности, а также идеи и ценности национализма, которые сопровождают процесс превращения этнических, культурных сообществ в политические, государственные [4, с. 132].
Политические ориентиры региональных элит, представляющих интересы этнического сообщества на определенной территории, могут иметь ирредентистскую направленность. Как отмечает Р. Брубейкер, в процессе ирредентизма возникает тройная связь. Речь идет о конфликте с участием трех сторон: этнического меньшинства, стремящегося к национальному самоопределению; государства, в котором сильны тенденции к национализму большой этнической общности; и внешней силы – государства, которое этническое меньшинство считает своей родиной [5, p. 34–46].
Таким образом, на внутрисистемном уровне феномен ирредентизма основывается на центробежных политических интересах и ценностях. Они являются центростремительными на межсистемном уровне – в отношении внешней территориально-политической системы, на которую ориентировано ирредентистское движение.
Обозначим системные интеграторы, позволяющие ослабить роль центробежных сил в развитии государства. Можно выделить целый ряд интеграторов, обеспечивающих государственное единство: институциональные, административные, силовые, культурные, ценностные, идеологические, этнополитические, экономические и др. Они так или иначе должны соответствовать государственной идее, которая оправдывает существование данного государства, его территориальную целостность.
В ряду институциональных интеграторов, способных обеспечить государственное единство, представляют интерес интеграторы, связанные с территориальным распределением государственной власти. К ним можно отнести институт территориальной автономии (наряду с таким более масштабным интегратором, как форма государственного устройства).
Серьезным вызовом многонациональному государству является проблема реализации права наций на самоопределение. Территориальная автономия в составе государства может рассматриваться как компромиссный механизм решения проблемы самоопределения на основе управляемой (контролируемой) децентрализации (как альтернативы суверенизации тех или иных регионов, претендующих на отделение от государства).
Территориальные автономии в составе государств существовали в различные исторические периоды. Однако широкое распространение в международной практике государственного строительства процессы автономизации получили в XX в. Поддержка и создание института автономии – реакция правящих элит тех или иных государств на рост центробежных тенденций в развитии соответствующих государственных систем. Эта ситуация возникла в начале XX в. и была обусловлена процессом распада целого ряда многонациональных империй, прежде всего Османской, Австро-Венгерской и Российской. На обломках империй начали создаваться новые национальные государства [6, с. 155–156]. Постимперская трансформация сопровождалась не только возникновением новых государств, но и формированием автономий в составе некоторых из них [7, c. 182].
В XX в. значимым вызовом для национальных государств (многие из которых сохранили многонациональный состав населения) стало признание права народов (или наций, по другой интерпретации) на самоопределение. После Первой мировой войны данный принцип провозгласил президент США В. Вильсон в проекте послевоенного мирного договора («14 пунктов Вильсона») [8, с. 25–26]. Одновременно право наций на самоопределение на официальном уровне провозгласили большевики в Советской России.
На практике принцип признания права народов на самоопределение вошел в жесткое противоречие с принципом территориальной целостности целого ряда государств мира. Принцип самоопределения был выполнен лишь в отношении некоторых народов Османской, Австро-Венгерской империй и отчасти в России. В странах Европы сохранились значительные национальные меньшинства, не сумевшие получить государственность [9, с. 182]. В этих условиях возросла роль автономии как компромиссного способа решения проблемы самоопределения, не связанного с нарушением территориальной целостности государств.
Как отмечает исследователь Й. Гай, если автономию можно отмежевать от суверенитета, она становится менее проблематичной [10, p. 509]. Й. Динштейн подчеркивает, что автономный регион – часть территории государства и не может нарушать его суверенитет. Конечная власть на территории автономии принадлежит суверенному государству [11, p. 299].
Рассматривая автономизацию как управляемый процесс, можно выделить следующие стратегии контролируемой децентрализации, призванные защитить государственный суверенитет: фрагментация, рассеивание регионального суверенитета; имитация суверенитета; диверсификация суверенитета. Они реализуются на общегосударственном и на международном уровнях.
Фрагментация, рассеивание суверенитета . Исследователь Й. Гай, говоря о функциональных характеристиках автономии, выделяет функцию «рассеивания, фрагментации суверенитета или уклонения от него», когда речь идет о региональной власти [12, p. 509]. Вопрос о внешнем самоопределении в данной стратегии не является предметом обсуждения с региональными политическими элитами. По оценке Н. Лукачевой, понятие автономии является эквивалентом самоуправления в контексте внутреннего права на самоопределение. При этом право на так называемое внешнее самоопределение, т. е. на выход из состава государства, автономному региону в подавляющем большинстве случаев не предоставляется [13].
Как управляемый процесс, практика автономизации вышла на международный уровень после создания Лиги Наций. Эта международная организация была создана в 1919–1920 гг., в соответствии с решениями Версальской мирной конференции [14].
Со стратегией рассеивания суверенитета можно связать действия Лиги Наций по наделению автономией Аландских островов. По рекомендации Совета Лиги Наций Финляндия и Швеция заключили в 1921 г. соглашение о гарантировании автономии для Аландских островов, где большинство населения составляют этнические шведы [15]. С одной стороны, Финляндия предоставила Аландским островам автономию, ограничив свой внутренний суверенитет на данной территории. С другой стороны, предоставление автономии данному региону упредило попытки реализации шведами Аландов права на внешнее самоопределение. Рассмотрев спор между Финляндией и Швецией о принадлежности Аландских островов, комиссия экспертов Лиги Наций пришла к выводу, что национальные меньшинства не должны рассматриваться как субъект «внешнего» самоопределения [16].
После создания Организации Объединенных Наций право народов на самоопределение стало нормой международного права. Данный принцип был зафиксирован в Уставе ООН. Вместе с тем принцип самоопределения народов со всей очевидностью вошел в противоречие с двумя другими принципами международного права – территориальной целостности государств и нерушимости государственных границ.
Во второй половине XX в. мир охватил бум этнического возрождения. С одной стороны, распалась колониальная система европейских государств, в результате чего обрели независимость десятки государств Африки и Азии. С другой стороны, в различных государствах мира началась активизация национальных движений малых народов и этнических групп (К. Барановский назвал это явление «большим национализмом» малых наций) [17]. Зачастую, лидеры и участники национальных движений (североирландского, баскского, фламандского, валлонского, франкоканадского и др.) требовали государственности для народов и этнических групп, от имени которых они выступали.
Исходя из вышеизложенного, во второй половине XX в. интерес международного сообщества к автономии значительно усилился. Так, по оценке С. Соколовского, одним из средств, смягчающих противоречия между принципами самоопределения и территориальной целостности государств, стала автономизация и другие формы «парциального суверенитета» [18].
Имитация суверенитета . Эта стратегия либо дополняет стратегию фрагментации суверенитета, либо реализуется отдельно от нее. Она заключается в том, что центральная власть государства, чтобы сделать автономию приемлемой для получателей, может наделять данный институт некоторыми формальными символами суверенитета. Эта тенденция может проявляться в форме наделения автономии региональными флагами, особыми паспортами, региональными марками или особыми названиями, такими как «республики» и «премьеры» [19, p. 509].
Стратегию имитации суверенитета автономий использовали, в частности, большевики в Советском Союзе. Советская модель территориальной интеграции государства была основана на декларативном признании права наций на самоопределение, федеративной модели государственного устройства и институте автономии как ее составной части. Автономные республики в рамках политической системы СССР не рассматривались в качестве суверенных государств, хотя формально имели ряд государственных атрибутов. Также, в отличие от союзных республик, автономные республики не имели права выхода из состава СССР [20, с. 39].
Исследователь Т. Мартин назвал политику содействия национальному строительству нерусских народов, которая проводилась большевиками, политикой «положительной деятельности». По мнению автора, данная политика была упреждающей. Реализуя данную политику, революционная Россия первой из традиционных европейских многонациональных государств оказала сопротивление поднимающемуся национализму [21, c. 10].
Диверсификация суверенитета . Сущность данной стратегии в том, чтобы симметрично рассредоточить государственные полномочия, передаваемые на места, не допустить их концентрации только в регионах с особой спецификой. В качестве примеров реализации данной стратегии можно привести опыт автономизации в Италии и Испании.
Согласно принятой в 1948 г. Конституции, Италия была разделена на 20 автономных областей. Таким образом, автономию получили как области Италии, отличающиеся особой спецификой, так и другие регионы страны. Вместе с тем Конституция (ст. 115–116) разделяет все области Италии на две категории – области с обычной автономией и области, имеющие «специальный статус» автономий. В областях первой группы действуют конституционные нормы «обычного порядка». Вторая группа областей получила «специальный статус» автономий. Это 5 областей – Сицилия, Сардиния, Трентино-Альто-Адидже, Фриули-Венеция-Джулия, Валле-д’Аоста [22, с. 17–18].
Одновременно к стратегии диверсификации суверенитета можно отнести решение властей Италии об объединении провинций Больцано (Южный Тироль) и Тренто. Данное объединение произошло в 1948 г., с принятием первого Автономного Статута для региона Трентино-Альто-Адидже. Таким образом, немецкоязычное население, составляющее большинство в историческом регионе Южный Тироль (провинция Больцано), оказалось в меньшинстве во вновь образованной автономной области. Почти две трети населения объединенной области Трентино-Альто-Адидже составили этнические итальянцы. Проблему защиты прав немецкоязычного населения Трентино-Альто-Адидже удалось решить только в 1972 г., с принятием нового Статута данной автономной области [23].
Автономизация Испании стала возможной после ухода из жизни Ф. Франко в 1975 г. и начала перехода Испании от авторитаризма к демократическому политическому режиму. Принятая в 1978 г. новая Конституция гарантировала право на автономию для «национальностей и регионов» Испании. Следует отметить, что Конституция 1978 г. не дала точного определения нации, национальности и региона. В то же время она дополнительно признала статус национальностей в регионах, имеющих соответствующие особенности (Каталония, Страна Басков, Галисия) [24, с. 20].
Испания была разделена на 17 автономных сообществ. Таким образом, наряду с регионами, имеющими особенности этнического состава населения, автономию симметрично получили основные регионы страны, которые этнической спецификой не отличались. Государство ав- тономий в Испании было создано на основе общностей, которые не обладали ранее суверенитетом. Однако обретение этими общностями автономных прав не сделало их суверенными. Формой государства автономий допускается один суверенитет – испанского народа. Как отмечает И. Данилевич, государство автономий стало играть в постфранкистской Испании роль системы, минимизирующей негативные последствия столкновения интересов «центр – регион» [25, с. 121].
Рассмотренные выше стратегии контролируемой децентрализации соответствуют центростремительным тенденциям в развитии государства как территориально-политической системы. Отдельно следует выделить стратегию поддержки суверенитета, которая имеет центростремительную направленность в отношении государств, поддерживающих автономистские движения ирредентистской направленности на территории сопредельных государств. На внутриполитическом уровне они имеют центробежную направленность.
Подведем итоги. Институт территориальной автономии можно рассматривать в качестве одного из интеграторов государства в той мере, в какой он позволяет ослабить центробежные силы в развитии данного государства. Территориальная автономия в составе государства может рассматриваться как компромиссный механизм решения проблемы самоопределения на основе управляемой (контролируемой) децентрализации. Автономизация, контролируемая и управляемая центром политической системы, связана прежде всего с сохранением государственного суверенитета на автономизируемых территориях. Эта проблема решается в рамках таких стратегий контролируемой децентрализации, как фрагментация, рассеивание суверенитета; имитация суверенитета; диверсификация суверенитета. Также центростремительная направленность института территориальной автономии определяется доминированием центростремительных интересов и ценностей в системе отношений «автономия – центр» и «центр – автономия».
Ссылки:
Vol. 40, no. 2. June. P. 95–130.
Список литературы Институт территориальной автономии в контексте центростремительных тенденций развития политической системы: вопросы теории
- Колосов В.А., Мироненко Н.С. Геополитика и политическая география. М., 2001. 479 с
- Hartshorne R. The Functional Approach in Political Geography//Annals of the Association of American Geographers. 1950. Vol. 40, no. 2. June. P. 95-130. https://doi.org/10.4324/9781315135267-6
- Hartshorne R. The Functional Approach in Political Geography//Annals of the Association of American Geographers. 1950. Vol. 40, no. 2. June. P. 110. https://doi.org/10.4324/9781315135267-6.
- Касьянов Г.В. Теорiї нацiї та нацiоналiзму. Киiв, 1999. 352 с
- Brubaker R. Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe. Cambridge, UK, 1996. 202 p. https://doi.org/10.1017/cbo9780511558764
- Альтер П. Этапы образования государств в Европе//Этнос и политика: хрестоматия/авт.-сост. А.А. Празаускас. М., 2000. С. 155-156
- Минаева Э.Ю., Панов П.В. Этнические региональные автономии: вариативность соотношения этнических и политико-административных границ//Политическая наука. 2017. № 4. С. 178-205
- Алексанян С.Р. Принцип равноправия и самоопределения народов в современном международном праве: дис. … канд. юрид. наук. М., 2018. 226 с
- Гаджиев К.С. Введение в геополитику: учеб. для вузов. М., 1998. 416 с
- Ghai Y. Autonomy as a Strategy for Diffusing Conflict//International Conflict Resolution After the Cold War/ed. by P.C. Stern, D. Druckman. Washington, D. C., 2000. P. 483-530
- Dinstein Yo. Autonomy//Models of Autonomy. Edited Papers of a Conference Convened in January 1980, Under the Auspices of the Faculty of Law of Tel Aviv University/ed. by Yo. Dinstein. New Brunswick, N. J., 1981. 308 p
- Ghai Y. Autonomy as a Strategy for Diffusing Conflict//International Conflict Resolution After the Cold War/ed. by P.C. Stern, D. Druckman. Washington, D. C., 2000. P. 509.
- Loukacheva N. On Autonomy and Law: MCRP Working Paper. 2005. June
- Соколовский С.В. Права меньшинств: антропологические, социологические и международно-правовые аспекты . М., 1996. URL: http://polbu.ru/sokolovsky_prava/(дата обращения: 08.07.2019)
- Грушкин Д.В. Право народов на самоопределение: история развития и воплощения идеи//Право народов на самоопределение: идея и воплощение/сост. А.Г. Осипов. М., 1997. 222 с
- Барановский К.Ю. Квебек: «большой национализм» малых наций//США: экономика, политика, идеология. 1991. № 12. С. 63-67
- Ghai Y. Autonomy as a Strategy for Diffusing Conflict//International Conflict Resolution After the Cold War/ed. by P.C. Stern, D. Druckman. Washington, D. C., 2000. P. 509.
- Златопольский Д.Л. Формы национальной государственности народов СССР. М., 1975. 63 с
- Мартин Т. Империя «положительной деятельности». Нации и национализм в СССР, 1923-1939/пер. с англ. О.Р. Ще-локовой. М., 2011. 662 с
- Сенюшкина Т.А. Автономизация как институциональный механизм предупреждения этнических конфликтов//Автономная Республика Крым в XXI веке: опыт, проблемы, развитие: материалы научно-практической конференции. Симферополь, 2006. С. 15-31
- Райнер К. Законодательство автономной провинции Южный Тироль //Казанский федералист. 2007. № 1-2 (21-22). URL: http://www.kazanfed.ru/publications/kazanfederalist/n21-22/5/(дата обращения: 08.07.2019)
- Данилевич И.В. Автономизация Испании//Полис. Политические исследования. 1995. № 5. С. 121-130
- Сенюшкина Т.А. Автономизация как институциональный механизм предупреждения этнических конфликтов//Автономная Республика Крым в XXI веке: опыт, проблемы, развитие: материалы научно-практической конференции. Симферополь, 2006. С. 20.