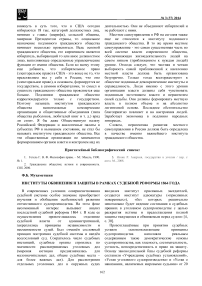Институты обвинения и защиты в рамках судебной реформы 1864 года
Автор: Мухаметшин Ф.Б.
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Конференция
Статья в выпуске: 3 (37), 2014 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/142232539
IDR: 142232539
Текст статьи Институты обвинения и защиты в рамках судебной реформы 1864 года
В современных условиях совершенствования судебной системы особое значение приобретают изучения и обобщения особенностей развития отечественного судопроизводства. На этом фоне несомненный интерес вызывает анализ последствий судебной реформы 1864 г. В ходе ее осуществления провозглашалось отделение судебной власти от административной, закреплялись принципы независимости и несменяемости судей. Был отменён сословный принцип построения судебной системы и введён всесословный суд. Сократилось число судебных инстанций, судебные органы строились по значимости рассматриваемых уголовных дел (мировая юстиция предназначалась для малозначительных дел, общие судебные места – для более важных дел). Для рассмотрения отдельных уголовных дел в окружных судах вводился институт присяжных заседателей, создается институт адвокатуры («присяжных поверенных»), «без которых решительно невозможно будет ведение состязания в судебных прениях в уголовном судопроизводстве с целью раскрытия истины и предоставления полной защиты тяжущимся и обвиняемым перед судом» [4, с. 30].
Провозглашённые при принятии судебных уставов основополагающие принципы судопроизводства наполняли реальным содержанием такие демократические основы судопроизводства, как гласность, состязательность, устность, непосредственность и право на защиту. Основу законодательной базы судебной реформы составили «Учреждение судебных установлений», «Устав уголовного судопроизводства» и «Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями» от 20

ноября 1864 года. В основу нового судопроизводства закладывались следующие принципы: 1) концепция формальных доказательств отменялась, а помещаемые в судебных уставах правила о силе доказательств служили только руководством при определении вины или невинности подсудных по внутреннему убеждению судей, которое, в свою очередь, основывалось по совокупности обстоятельств, обнаруженных при производстве следствия и суда; 2) приговор был или осуждающим, или оправдывающим для подсудимого (оставление в подозрении не допускалось).
В данном случае возобладала либеральная оценка, согласно которой формальная система оценки доказательств не обеспечивала достаточной базы для осуждения виновного и оправдания невиновного. Гарантией правосудия стала свободная оценка доказательств на основании внутреннего убеждения судей. В зависимости от тяжести и юридической природы преступлений и проступков вводились частный и публичный порядки обвинения. Частный порядок обвинения имел место при посягательствах на «права известного частного лица без особого посягательства на безопасность общества» (когда объектом преступного деяния не являлся «общественный интерес») [4, с. 28].
Функции обвинения в общих судебных установлениях возлагались на органы прокуратуры. Законодательство исходило при этом из непреложного факта сложности дел, подсудных общим судебным местам, разграничивая мировой и общий суды. Различие заключалось в том, что обличение обвиняемых потерпевшим в мировых судах являлось его правом, а обличение обвиняемых прокурором было его обязанностью. Прокурор в соответствии со ст. 740 гл. VIII «О значительных прениях по судебному следствию» раздела IV «О производстве в окружных судах» книги II «Порядок производства в общих судебных местах» «Устава уголовного судопроизводства» 1864 года [2, с. 119] обязан был отказаться от обвинения, если находил оправдание подсудимого основательным. Однако он не мог отказаться от обвинения ввиду малозначительности правонарушения или когда оправданный подсудимый первым приговором не подвергался наказанию, а также, если не он был признан виновным при вторичном рассмотрении дела [2, с. 10].
При подготовке судебной реформы указывалось, что не могло бы существовать доверия правосудию, не было бы общественной безопасности и спокойствия, если бы после долгих судебных прений подсудимый мог быть осуждён по тому же обвинению, по которому он был гласно оправдан. Оправданному в уголовном суде предоставлялось право на вознаграждение за вред и убытки от неправильного обвинения. Подробная регламентация этого права давалось в ст. ст. 780, 781, 782, 783, 784 отделения II «Постановления приговоров без участия присяжных заседателей» гл. IХ «О порядке постановления и объявления приговоров» раздела IV «О производстве в окружных судах» книги II «Порядок производства в общих судебных местах» «Устава уголовного судопроизводства» 1864 года [2, с. 195].
В статье 50 отд. I «Поводы к начатию дел» гл. II «О порядке начатия дел у мировых судей» книги I «Порядок производства в мировых судебных установлениях» «Устава уголовного судопроизводства» 1864 г. «в сообщениях мировому судье как письменных, так и словесных, полицейские и другие административные власти должны указывать: 1) когда и где преступное действие совершено; 2) на кого падает подозрение и какие на то есть обстоятельства; 3) имеются ли в виду гражданский истец или свидетели; 4) место жительства всех обозначенных лиц» [2, с. 125]. Там же содержался перечень сведений, которые должны сообщать мировому судье полицейские и иные административные власти. Для защиты интересов казны казённое управление назначало своих поверенных из числа чиновников или частных лиц, сообщая об этом мировому судье вместе с уведомлением о взысканных с обвиняемого суммах. Сроки явки обвиняемого и вызываемых мировым судьей иных лиц определялись с учётом расстояния и местных средств сообщения.
Мировой судья мог вызвать обвиняемого, когда этого требовали обстоятельства дела. По делам с наказаниями не выше ареста обвиняемый мог прислать вместо себя потерпевшего. Решение уголовного кассационного департамента Сената разъяснялось с одновременной явкой к мировому судье обвиняющей и обвиняемой сторон, делало ненужным особое извещение обвинителя [1, с. 6465]. Кассационная практика Сената отмечала, что не вызов свидетелей, указанных обвиняемым влек за собой отмену приговора. Вместе с тем в законодательстве содержались положения о заочных приговорах, выносимых мировым судьёй при отсутствии обвиняемого, а также о последствиях неявки обвиняемого (ст. 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141 гл. V «О заочных приговорах» книги I «Порядок производства в мировых судебных установлениях» «Устава уголовного судопроизводства» 1864 года) [5, с 133]. Обязательно должны были присутствовать обвиняемые в проступках, за которые полагалось

заключение в тюрьме. Эти проступки предусматривались в ст. ст. 49, 50, 51, 155, 158, 159, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 180 «Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями» 1864 года [5, с. 414-419].
Практика первых пореформенных лет показала усиление роли защиты. В кассационных решениях Сената указывалось, что мировой съезд имел право отказать в представлении обвинений обвинителю, явившемуся в суд после последнего слова подсудимого [1, с. 86-87]. Сенат также указывал, что полиция не имела права на формальный допрос даже по поручению мирового судьи.
Сторонники введения института присяжных подчёркивали, что условиями, внушающими общее доверие к уголовному суду, являются: 1) отделение в уголовных делах вопроса о виновности от вопроса о наказании с представлением разрешения каждого из этих вопросов особыми судьями; 2) многочисленность судей, принимающих участие в решении дела; 3) широкое право отвода судей как обвиняемым, так и обвинителем [4, с. 95]. В обосновании преимущества суда присяжных указывалось, что если решение вопросов о виновности и наказании принадлежало одним и тем же судьям, то суды часто старались определить степень вины так, чтобы подсудимый подлежал только тому наказанию, которому судьи желали его подвергнуть. Это искажало объективность приговора, так как от личного убеждения судьи могли зависеть решение вопроса о вине или невиновности подсудимого, а отнюдь не вопрос о следующем ему наказании.
Определяя общее правило о подсудности по месту совершения преступления, ст. ст. 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217 гл. II «О подсудности по месту совершения преступлений» разд. I «О подсудности» книги II «Порядок производства в общих судебных местах» «Устава уголовного судопроизводства» 1864 года [2, с. 140141] одновременно отмечали необходимость производства предварительного расследования в месте обнаружения преступного деяния и в месте пребывания обвиняемого.
Позитивные последствия реформы отразились и в том, что при производстве предварительного следствия по законодательству устанавливалась гласность и право обвиняемого на защиту. Однако некоторые члены Государственного Совета утверждали, что гласность не везде и не всегда была применима, в частности, «успешное открытие истины в уголовном деле зависело всегда и, безусловно, от негласности следственных действий и распоряжений». Кроме того, «нельзя не опасаться, что защитник сочтет своею обязанностью противодействовать собранию обличительных доказательств и способствовать обвиняемому в сопротивлении следов обвинения» [4, с. 128]. Наряду с этим закреплялся принцип состязательности в уголовном судопроизводстве. «Состязательное начало составляло душу современных как гражданских, так и уголовных процессов, а потому мера развития в том и другом процессе состязательного или противополагающегося ему следственного начала есть вопрос политики права» [3, с. 65]. Состязательность в противоположность дореформенному инквизиционному судопроизводству была призвана продемонстрировать демократическое содержание реформы суда. Несмотря на закрепление принципа равенства сторон в процессе (уравнение их в способах, средствах, пределах и формах, в каких они, каждая со своей точки зрения, имеют право убеждать судей), при подготовке судебной реформы особо отмечалось, что «прокурор являлся на суд как обвинитель, и он составлял обвинительный акт и поддерживал во время судебного следствия обвинение не для того, чтобы добиться во что бы то ни стало осуждения обвиняемого, но единственно для того, чтобы определительным указанием всех представляющихся в деле поводов и оснований к обвинению дать возможность объяснить их с точки зрения защиты и даже вовсе устранить их, если они могут быть опровергнуты». Ст. 632 гл. V «Об условиях производства дел в судебных заседаниях» раздела IV «О производстве в окружных судах» книги II «Порядок производства в общих судебных местах» «Устава уголовного судопроизводства» 1864 г. [2, с. 181] вводила существенное процессуальное преимущество для подсудимого (право последнего слова по каждому спорному обстоятельству на суде). Лишение возможности воспользоваться правом последнего слова признавалось отступлением от закона, так как противоречило презумпции невиновности. Окружной суд не рассматривал вопрос о подсудности и порядке производства дела, если по этому вопросу имелось решение судебной палаты о предании обвиняемого суду. В остальных случаях окружной суд не ограничивался в решении стоящих перед ним вопросов.
В уголовное судопроизводство вводилось начало непрерывности. Непрерывность понималась в том смысле, что суд не должен был смешивать рассмотрение одного дела с рассмотрением другого и не должен менять своего состава. Как отмечалось в процессе подготовки реформы, непрерывность суда вытекала из требования решения дела по внутреннему убеждению судей, основанному на обсуждении в совокупности всех обстоятельств дела, что исключало для судей возможность одновременного рассмотрения нескольких дел и
изменения состава суда и скамьи присяжных заседателей. Подобный позитивный процесс не мог продолжаться длительное время. В последней четверти XIX в. произошло несомненное усилие роли института обвинения в уголовном судопроизводстве России. Данное явление было во многом предопределено изменением политической ситуации в стране (возникновением феномена политического терроризма). С другой стороны, оно было вызвано необходимостью обеспечить стабильное развитие судебной системы в условиях, когда сторона защиты получила максимально возможный объем своих полномочий на первом этапе реализации целей и задач судебной реформы 1864 г.
В этом смысле изучение закономерностей появления одной из самых демократических в истории России реформ и последующего свертывания его позитивных составляющих и сегодня представляет несомненный интерес.
Список литературы Институты обвинения и защиты в рамках судебной реформы 1864 года
- Железников В.А. Настольная книга для мировых судей. Изд. 2-е. СПб., 1867.
- Устав уголовного судопроизводства 1864 г., ноября 20. Системный комментарий. Вып.1. М., 1914.
- Случевский В.К. Учебник русского уголовного процесса. СПб., 1913.
- Судебные уставы 1864 г., ноября 20 с изложением рассуждений, на коих они основаны, изданные Государственной канцелярией. Ч. II. СПб., 1866.
- Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями 1864 г., ноября 20. Российское законодательство Х-ХХ вв. В 9-и т. Т.8. Судебные реформы / Под общ. ред. О.И. Чистякова. - М.: Юрид. лит., 1991.