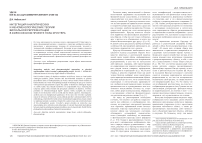Интеграция аналитических и феноменологических теорий визуальной репрезентации в философском проекте Пола Кроутера
Автор: Небольсин Даниил Игоревич
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Philosophia perennis
Статья в выпуске: 3 (41), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются ключевые аспекты предложенной П. Кроутером теории, объединяющей интерес к семантике и структуре изобразительной репрезентации с оригинальными тезисами об онтологической, телесной и темпоральной специфике изображений. Несмотря на ряд спорных моментов (эссенциализм и отвержение историзма, последовательная ориентированность на нормативную эстетику, общий теоретический эклектизм), эта концепция может рассматриваться в качестве примера продуктивности взаимодействия достижений аналитической и феноменологической традиций философии изображений.
Изображение, репрезентация, теория образа, аналитическая философия, феноменология
Короткий адрес: https://sciup.org/170175717
IDR: 170175717 | УДК: 18 | DOI: 10.24866/1997-2857/2017-3/126-132
Текст научной статьи Интеграция аналитических и феноменологических теорий визуальной репрезентации в философском проекте Пола Кроутера
Различия между аналитической и феноменологической традициями исследования изображений весьма существенны, а возможность взаимодействия этих школ зачастую представляется утопической. Существует немного попыток их интеграции или сравнительного анализа, и теория Пола Кроутера выделяется среди них как, возможно, наиболее развернутая. Позиционируя свой проект как «пост-аналитическую феноменологию», Кроутер пытается объединить наработки этих философских традиций таким образом, чтобы они «не только сообщались друг с другом, но и объединялись в метод, чьи аспекты комплементарны друг другу» [5, р. 41]. В данной статье предлагается разбор ключевых особенностей, противоречий, преимуществ, недостатков и перспектив этого синтеза.
Кроутер обосновывает необходимость интегрального подхода следующим образом: большинство известных в англоязычной академической среде теорий образа «инфицированы» семиотическим, социальным или историческим редукционизмом, в силу чего их методология либо фатально упрощена, либо ориентирована на «характерную для западного инструментального разума модель товарного производства, дистрибуции и потребления» [6, р. 18]. В свою очередь, в качестве отправной точки для своей теории Кроутер выбирает идею внеисториче-ского характера механизмов понимания образов. Он также исходит из того, что в семантических, структурных и онтологических характеристиках изобразительной репрезентации заложены предпосылки для ее художественного или эстетического использования. Поэтому он, сторонясь любых форм контекстуализма, обращается к исследованию «структур, фундаментальных для онтологии визуальных медиа» [6, р. И].
Но перед их рассмотрением необходимо уточнить, что именно в его работах подразумевается под «образом» и «изображением» (поскольку не существует однозначной трактовки этих терминов, принимаемой всеми исследователями). Кроутер периодически использует понятие образа как ментального состояния, обладающего «изоморфной консистентно-стью» (isomorphic consistency) по отношению к феноменальной структуре своего референта [3, р. 101]. Однако в рассматриваемых текстах речь идет о материальных изображениях, причем в первую очередь художественных - картинах, рисунках и т.п. Кроутер называет их как изображениями, так и образами, а также картинами. В структурном отношении они отлича ются специфической «четырехсложностью»1, включающей в себя физическую основу (материальная поверхность), формальные особенности (текстура, цвет и т.п.), физиогномические свойства и репрезентационное содержание [3, р. 139]. Однако для Кроутера исследование элементов этой структуры вторично по отношению к экспликации семантических и онтологических характеристик образов, разворачиваемой из перспективы создателя изображения - путем рассмотрения того, как именно осуществляется процедура изображения видимого мира на плоскости2.
Эта перспектива позволяет Кроутеру обратиться к семантической специфике изображений в обход более распространенных стратегий3: «В самом акте создания образа (вне зависимости от практических намерений и последующих использований образа) человек в буквальном смысле воздействует на мир, и тем самым изменяет свое когнитивное отношение к репрезентированному объекту, к себе, а также к существованию в более общем смысле» [6, р. 18]. Этот достаточно радикальный тезис можно признать «ядром» рассматриваемого философского проекта. Как ни странно, он восходит к работам Нельсона Гудмена [8]. Вслед за последним Кроутер постулирует в качестве одной из ключевых характеристик визуальной репрезентации то, что она «не воспроизводит механически свой предмет, но скорее является его интерпретацией» [6, р. 37]. Это значит, что для изображений конститутивно не сходство с изображаемым предметом (для Гудмена оно является мифом, для Кроутера - фактором отнюдь не первой важности), но отличие от него - и то, какими средствами (перцептивными, символическими и т.д.) осуществляется это отличие.
Выступая интерпретациями видимого мира, изображения могут придавать своим объектам физически невозможные свойства (к примеру, приписывать упитанным путти с крохотными крыльями способность летать), а также репрезентировать невозможные либо неизвестные в обыденной практике объекты, действия и ситуации. По большому счету, они имеют дело прежде всего с областью возможного, а не наличного: «Изображение репрезентирует только возможный объект визуального восприятия» [4, р. 39]. Другими словами, какая бы то ни было корреляция изображения и объекта не имеет обязательного характера, а вопрос об онтологическом статусе референта оказывается нерелевантным. Если изображения не ограничены в выборе объектов и способов их представления, то любая визуальная репрезентация становится «визуальной альтернативой» миру, и ее когнитивная ценность обусловливается именно предположительно безграничной вариативностью интерпретации мира визуальными средствами. В отличие от Гудмена, Кроутер считает эту «модальную пластичность» изображений в большей мере онтологической, чем семантической характеристикой, ведь именно она позволяет реорганизовывать не только изображаемый предмет или сцену, но и видимый мир в целом. В конкретном же переживании модальная пластичность сочетается с отрывом от привычных концептуальных условий восприятия, что приводит к прерыванию естественной установки реципиента в отношении элементов видимого мира, тем или иным образом представленных в изображении, а зачастую и в отношении самих изображений и видимого мира как такового [6, р. 41].
Как возможна модальная пластичность и ее обозначенные выше следствия? Кроутер полагает, что визуальная репрезентация - конструкция, слагаемая из двух «векторов»: схематического и партикулярного [6, р. 37-38]. Схематическое содержание придает ей, грубо говоря, «формальные» свойства (линии, цвета, комбинации и т.д.), позволяющие зрителю распознавать составляющие партикулярный вектор и подводимые под понятия визуальные частности (объекты, сцены, действия и т.д.), а также определяют оригинальность и перцептивную отличительность того или иного изображения в ряду прочих. Распознавание изображенных объектов обычно не требует сознательной актуализации схематического, конструирующего уровня, но именно он предоставляет необходимые условия для того, чтобы некоторый объект мог считаться именно изображением, а не нейтральной плоскостью. В этом аспекте Кроутер снова сближается с Гудменом и его последователями (такими, как Джон Кульвицки [9] или Оливер Шольц [И]), рассматривающими «дореферен-циальный» уровень семантики изображений и то, как их синтаксические характеристики
«конвертируются» в значащую репрезентацию. Но в отличие от этих авторов, Кроутер выступает против рассмотрения изображений в символической перспективе: с его точки зрения, «в строго пикториальных терминах» [6, р. 36] изображения могут создаваться без денотативной интенции и восприниматься без отсылки к чему-либо (для Гудмена же денотация является неустранимым «ядром» репрезентации [8, р. 5]). Более радикальное расхождение с этой традицией заключается в том, что на основе идеи сконструированности изображений Кроутер формулирует тезис о внеисторическом и транскультурном характере их интерпретации: «Образ всегда пикториально интеллигибелен на базовом уровне без необходимости «декодировать» его посредством отсылки к внешним обстоятельствам, связанным с контекстом его создания или использования» [6, р. 38-39]. По большому счету это полная противоположность радикальному конвенционализму Гудмена.
Кроутер возводит когнитивные, онтологические и эстетические свойства изображений не только к их семантике, но и к пространственной организации их репрезентационного содержания. В ее основе лежит пикториальный синтаксис, под которым подразумеваются визуальные отношения, устанавливаемые между двумя крайними точками изобразительного пространства4 - фоном и «поверхностной плоскостью» (наиболее «близкими» к зрителю элементами содержания визуальной репрезентации) [6, р. 42-43]. Визуальный синтаксис не только способствует организации схематического и партикулярного векторов изображения в легко схватываемое единство, но и конституирует специфическую двухмерность изобразительной репрезентации. Локализация объектов видимого мира в неподвижном двухмерном пространстве изобразительной плоскости неизбежно требует их представления со стационарной фронтальной позиции, что еще сильнее отделяет объект репрезентации от обыденных условий его восприятия [6, р. 46].
Предполагая необходимость трансформации изображаемых объектов, пространственно-плоскостная специфика изображений лишний раз демонстрирует, насколько визуальная репрезентация этих объектов неизоморфна их данности в опыте, - и это влечет за собой важное онтологическое следствие, связанное с темпоральным аспектом визуальной репрезен- тации. Помещаясь в описанные выше условия, изображаемое вырывается из потока актуального времени реципиента: время перестает быть значимым фактором, даже если в изображении представлено некоторое движение или процесс. Кроутер обозначает данное свойство термином “presentness”, указывающим как на присутствие изображаемого в настоящем, так и на радикальное отделение этого настоящего от привычного хода вещей, опять-таки способствующее прерыванию естественной установки [6, р. 44; 4, р. 40-42]. Здесь ход мысли Кроутера пересекается с идеей Готфрида Бема о том, что «вырывание» объекта изображения из временной последовательности в акте пикториально-го показа меняет и онтологический статус самого объекта, предоставляя ему особое «место в мире»: интенсифицированное присутствие, нередуцируемое к денотативным или «чисто» перцептивным функциям [2].
Среди наиболее близких феноменологии элементов рассматриваемой теории необходимо выделить проблематизацию телесного и пространственного характера восприятия изображений: здесь Кроутер эксплицитно следует мысли Мориса Мерло-Понти. «Обыденное» визуальное восприятие укоренено в привычной сенсомоторной активности тела по отношению к окружающей среде. Изображения же направляют внимание реципиента на собственное место в пространстве, экземплифицируя интерактивный характер отношений тела и окружающего мира. Поскольку Кроутер считает расположение в пространстве ключевой характеристикой существования в мире, эта функция изображений признается им одной из конститутивных [4, р. 4-5; 6, р. 25]. Объединяя в едином визуальном опыте физическое и виртуальное, изображения предоставляют экстернальную по отношению к телу реципиента модель субъективного видения. Это придает им качество «феноменологической глубины», предполагающей онтологическую реципрокность субъекта и объекта переживания [6, р. 3].
По мысли Кроутера, феноменологическая глубина изображений не является неким отвлеченным свойством, а может оказывать сильное и непосредственное влияние на человеческую идентичность. Он обосновывает это тем, что понимание человеком себя в существенной степени конституируются способностью воображения - в том числе регулярными представлениями прожитых или знакомых «из вторых рук» ситуаций с тех или иных пространственных то чек обзора, включая чужие и альтернативные. Визуальная репрезентация дает возможность непосредственно столкнуться с этой множественностью и вариативностью видения в экс-тернализованном виде: «Это зрение, созданное на публично доступном уровне и освобожденное от непосредственных экзистенциальных давлений, как и от превратностей времени» [6, р. 56]. Благодаря этому изображения также задействуют значимый интерсубъективный компонент, предоставляющий доступ к чужим «способам видения». Собственно, Кроутер считает главной функцией изображений то, что они различными способами и в различных модальностях «экземплифицируют факторы, базовые для нашей когнитивной и метафизической укорененности в мире» [6, р. 31], что и составляет «внутреннюю значимость образа», раскрытию и обоснованию которой посвящается большая часть рассматриваемой философской системы.
В некоторых работах Кроутер уделяет отдельное внимание абстрактным изображениям, снабжая свою теорию дополнительным концептуальным аппаратом [6, р. 99-119; 3, р. 90-98; 7, р. 201-250]. С его точки зрения, восприятие абстракций чаще всего случается в заведомо художественном (музейном, галерейном) контексте. Это заметным образом трансформирует установку реципиента: в нее включается «презумпция виртуальности» [6, р. 104], заставляющая хотя бы в фоновом режиме полагать, что все абстрактные изображения должны быть «о чем-то». За неимением существующих референтов кандидатом на роль «чего-то» оказывается контекстуальное пространство, которое одновременно и служит сырым материалом визуального опыта, и способствует организации последнего, включая в себя, помимо прочего, случайные цветовые соотношения, сны и не поддающиеся концептуализации визуальные частности и случайности. Способствуя нашей ориентации в мире, оно исключительно редко становится объектом нашего внимания [3, р. 94-95]. По мысли Кроутера, именно представление и интерпретация контекстуального пространства обусловливает когнитивную ценность абстрактных изображений. Последние при этом понимаются как «аллюзивные образы» [3, р. 97], предоставляющие непрямой доступ к ускользающим от обыденного внимания нюансам и аспектам взаимодействия человека с видимым миром. Грубо говоря, абстракции наиболее эффективно показывают, как можно видеть так-то, а не то-то. Понятие контексту- ального пространства в значительной степени совпадает с трактовкой невидимого в работе Мерло-Понти «Око и дух» [1]. Однако Кроутер предлагает достаточно развернутую классификацию семи уровней контекстуального пространства, относя к нему в том числе и горизонт представлений о возможных изменениях в видимом [6, р. 108], а Мерло-Понти обнаруживает способность проявлять «то, что обычное зрение полагает невидимым» [1, с. 19] в любой живописи, не только и не столько в абстрактной. То есть подход Кроутера оказывается более нюансированным, но и более узким.
Анализ абстрактных изображений добавляет несколько продуктивных деталей к кратко изложенной выше теории Кроутера, но вступает в некоторое противоречие с ней. По большому счету, автор использует институциональный критерий определения абстрактного искусства: чтобы увидеть некоторый объект в качестве аллюзивного образа, мы для начала должны знать, что это именно художественный объект, а раз это художественный объект, то предполагается, что он должен быть «о чем-то» и т.д. Однако в остальных работах Кроутер не только отвергает большинство контекстуальных объяснений визуальной репрезентации, но и настойчиво утверждает, что рассматриваемые им характеристики последней независимы от исторических, социальных или культурных детерминаций и контекстов; исключение делается только для абстрактных изображений. С одной стороны, такой эссенциализм служит способом заявить, что создание и восприятие изображений - практика немалой антропологической значимости. С другой стороны, он ведет к затруднениям при использовании или развитии теории Кроутера авторами, не претендующими на окончательное объяснение «фундаментальной сущности» изображений.
Одна из главных сложностей с подходом Кроутера состоит в том, что в нем содержится целый ряд ценностно-окрашенных импликаций (с выходом последней на данный момент книги автора среди них возобладала религиозная [4]). Так, Кроутер - один из немногих современных англоязычных философов, открыто разрабатывающих нормативную эстетическую теорию с большинством сопутствующих ей атрибутов: ранжированием объектов по «универсальным» ценностным критериям, повышенным вниманием к фигуре творца, сосредоточением на инсти-туциализированных художественных практиках без учета их институциональной специфики и даже пониманием эстетического по модели органического единства [6, р. 24-25]. Как правило, эти особенности наиболее заметны в его сочинениях по эстетике, но и в текстах по философии изображений более чем достаточно вызывающих вопросы моментов. Это, во-первых, преимущественное рассмотрение изображений из перспективы их создателя, вследствие чего перцептивные и креативные акты производителей изображений представляются как имеющие больший объяснительный и ценностный потенциал, чем соответствующие акты реципиентов. Во-вторых, бросается в глаза фокусировка анализа на художественных изображениях - невзирая на то, что обычно они составляют пренебрежительно малую часть повседневного визуального опыта. В-третьих, вызывает ряд сомнений утверждение о внутренней связи выделяемых Кроутером характеристик изобразительной репрезентации с условиями, позволяющими изображениям становиться объектами искусства с сопутствующей им культурной валоризацией5. Упомянутые проблемы заставляют поставить вопрос о том, применим ли подход Кроутера к изображениям, не имеющим каких-либо связей с художественными практиками.
Этот вопрос важен по следующей причине: ограничение теории визуальной репрезентации областью искусства автоматически понизило бы целесообразность самой идеи интеграции аналитической и феноменологической традиций, ведь одна из центральных установок аналитической философии изображений - это поиск теорий, способных очертить условия базового понимания любых изображений во всем их многообразии. И здесь снова бросается в глаза «неравномерность» проекта Кроутера. Когда он, например, анализирует логические и семантические характеристики изображений, его теория выступает в качестве достаточно аккуратного инструмента анализа практически любых образцов и вариаций визуальной репрезентации. Но при обращении к онтологической и экзистенциальной проблематике она становится излишне контринтуитивной (сходу не очень легко допустить, что любое изображение может способствовать трансформации идентичности человека в силу экземплификации базовых условий его пребывания в мире), недостаточно информативной (не вполне ясно, как именно этот тезис может способствовать теоретическому пониманию конкретного изображения), а также ориентированной скорее на «шедевры», чем на обыденные визуальные практики.
Удалось ли Кроутеру объединить аналитическую и феноменологическую традиции органичным и убедительным способом? На наш взгляд, об этом можно говорить лишь с определенными уточнениями и оговорками. Проект Кроутера крайне эклектичен, в нем не только задействуются представители аналитической и феноменологической традиций (чьи теории, конечно, не так легко выстроить в один ряд без искажений или упрощений), но и окказионально привлекаются сравнительно неожиданные в данном контексте авторы в диапазоне от Иммануила Канта до Жиля Делеза. Использование этой теории во всех ее измерениях (не стоит забывать, что она сообщена и с более широкими эстетическими, метафизическими и религиозными представлениями автора) может быть затруднено рассмотренными выше нормативными импликациями и противоречиями. По отдельности же составляющие ее идеи и концепты в большинстве своем либо напрямую восходят к Мерло-Понти, Гудмену и др., либо достаточно легко заменяются альтернативными моделями. Вместе с тем, в концепции Кроутера нельзя не выделить ряд интуиций и предложений, демонстрирующих, как аккуратное совместное задействование феноменологических и аналитических теорий изобразительной репрезентации может привести к крайне продуктивным и перспективным результатам.
В первую очередь обращает на себя внимание трактовка семантики визуальной репрезентации, в которой денотативная и миметическая функции признаются не обязательными, а опциональными. Сочетание сконструированного характера и модальной пластичности с плоскостной спецификой изображений предоставляет возможности для понимания их семантических характеристик в «автономном», нереференциальном ключе. Этому также способствует и концепция контекстуального пространства, которую, полагаем, можно применить не только к абстрактной живописи.
Во-вторых, представляется удачным сочетание восходящей к Гудмену трактовки когнитивного потенциала изображений с нерепре-зентационным, телесно-ориентированным и почти активистским подходом к восприятию. Это позволяет совместить структурно-когни-тивисткий метод с рассмотрением визуальной и телесной составляющих изобразительного опыта, заведомо исключенных из теории Гуд мена. Здесь Кроутер, в общем-то, предлагает одно из наиболее многообещающих и, главное, реализуемых направлений для интеграции аналитической и феноменологической традиций.
Кроме того, рассматриваемую теорию можно признать ярким примером трактовки визуальной репрезентации через его перцептивное и концептуальное отличие от восприятия мира «лицом к лицу»: изображение осмысляется как радикально противоречащее и референту, и обыденному визуальному опыту реципиента, и обыденным представлениям последнего о темпоральности, мире и самости. Столь настойчивое указание на различия и асимметрии, выявляемые в ходе анализа семантических, структурных и онтологических характеристик изображений, иногда ведет Кроутера к излишне радикальным метафизическим выводам, но в целом представляется продуктивной стратегией для теоретиков визуальной репрезентации.
Философская система Кроутера выделяется из числа прочих во многом благодаря отлаженной системе дополнений и отсылок, формирующей из отдельных идей комплексную и разностороннюю теорию. Элементы этой системы, как правило, наглядно и убедительно дополняют друг друга: так, трактовка семантики изображений влечет за собой выводы онтологического и структурного характера и подкрепляется трактовкой темпоральных и пространственных качеств изображений. Но важна не «красивость» теоретической подгонки, а получаемое на выходе понимание изображений: оно становится нередукционистским, избегающим прямолинейных объяснений и сфокусированным как на многоаспектности и процессуальности восприятия, так и на сложностях и нюансах материальных, семантических и других аспектов изобразительной репрезентации. Интуиции, предложения и импликации теории Кроутера предоставляют множество поводов для дальнейших разработок и убедительно демонстрируют, что отсутствие налаженной интеракции между аналитической и феноменологической версиями философии изображений - это, возможно, следствие академической конъюнктуры, но явно не признак несовместимости разрабатываемых в рамках данных традиций подходов.
Список литературы Интеграция аналитических и феноменологических теорий визуальной репрезентации в философском проекте Пола Кроутера
- Мерло-Понти М. Око и дух. М.: Искусство, 1992.
- Boehm, G., 2012. Representation, presentation, presence: tracing the Homo Pictor. In: Alexander, J.C., Bartmanski, D. and Giesen, В. eds., 2012. Iconic power: materiality and meaning in social life. New York: Palgrave Macmillan, pp. 16-23.
- Crowther, P., 2007. Defining art, creating the canon: artistic value in an era of doubt. Oxford: Oxford University Press.
- Crowther, P., 2016. How pictures complete us: the beautiful, the sublime, and the divine. Stanford: Stanford University Press.
- Crowther, P., 2013. Imagination, language, and the perceptual world: a post-analytic phenomenology. Continental Philosophy Review, Vol. 46, no. 1, pp. 37-56.
- Crowther, P., 2009. Phenomenology of the visual arts (even the frame). Stanford: Stanford University Press.
- Crowther, P., 2012. The phenomenology of modem art: exploding Deleuze, illuminating style. London-New York: Continuum.
- Goodman, N., 1968. Languages of art. Indianapolis: Bobbs-Merill Co.
- Kulvicki, J., 2006. On images: their structure and content. New York: Oxford University Press.
- Podro, M., 1997. Depiction and the golden calf. In: Harrison, A. ed., 1997. Philosophy and the visual arts: seeing and abstracting. Dordrecht: D. Reidel Publishing Co., pp. 3-22.
- Scholz, О., 2000. A solid sense of syntax. Erkenntnis, Vol. 52, no. 2, pp. 199-212.
- Wollheim, R., 2001. On formalism and pictorial organization. The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol. 59, no. 2, pp. 127-137.
- Wollheim, R., 1980. Seeing-as, Seeing-in and pictorial representation. In: Wollheim, R., 1980. Art and its objects. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 205-226.