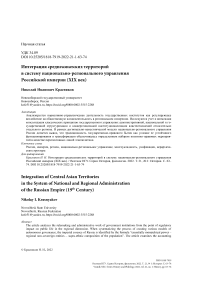Интеграция среднеазиатских территорий в систему национально-регионального управления Российской империи (XIX век)
Автор: Красняков Н.И.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Российская история
Статья в выпуске: 1 т.21, 2022 года.
Бесплатный доступ
Анализируется нормативно-управленческая деятельность государственных институтов как регулирующее воздействие на общественную жизнедеятельность в региональном измерении. Исследуются учет и возможная консолидация классических принципов государственного управления: административной, национальной и государственной структуризации и конвергенционной институционализации властеотношений относительно отдельного региона. В рамках регионально-наместнической модели национально-регионального управления России делается вывод, что традиционность государственно-правового бытия как условие ее устойчивого функционирования и трансформации обеспечивалась определенным набором политико-правовых мероприятий в качестве перспективных линий этнополитики.
Россия, империя, регион, национально-региональное управление, многоукладность, унификация, иерархическая структура
Короткий адрес: https://sciup.org/147236266
IDR: 147236266 | УДК: 34.09 | DOI: 10.25205/1818-7919-2022-21-1-63-74
Текст научной статьи Интеграция среднеазиатских территорий в систему национально-регионального управления Российской империи (XIX век)
Krasnyakov N. I. Integration of Central Asian Territories in the System of National and Regional Administration of the Russian Empire (19th Century). Vestnik NSU. Series: History and Philology , 2022, vol. 21, no. 1: History, pp. 63– 74. (in Russ.) DOI 10.25205/1818-7919-2022-21-1-63-74
Актуализирующим тему фактором выступает сложность закрепления в империи классических принципов функционирования управления: административной, национальной и государственной структуризации власти ввиду альтернативности форм их реализации в государственном устройстве. Представляется, что именно в имперском дискурсе взаимодействия и взаимообусловленности многочисленных иерархий в праве, государстве и социуме отражается еще один элемент социальной и научно-познавательной значимости исследовательского замысла.
Теоретико-методологической основой исследования выступают труды историков права С. В. Кодана [2004], Л. Е. Лаптевой [1998], Ю. Л. Шульженко [2008], причем в их работах наблюдается расширение предметности проблематики в части рассмотрения значения социокультурных институций и функционирования законодательно-территориальной организации в России имперского периода, а также работы философско-материалистической направленности, в которых анализируется единство многообразия в империостроительстве в условиях предельной пестроты местных традиций населения [Каспэ, 2001; Кантор, 2007; Национализм…, 2007]. В качестве мировоззренческой позиции принята политико-философская концепция социальной модернизации применительно к нормативной сфере жизнедеятельности, а также исторической регионалистики. Источниковую базу составили политико-юридические проекты, материалы делопроизводства правительственных учреждений и законодательные акты XIX в.
Поскольку предмет-объектным содержанием избрана нормативно-управленческая деятельность государственных институтов, возникает потребность определить характер государственной власти в имперском политико-правовом пространстве и отдельные черты ее реализации непосредственно в государственном управлении на региональном уровне применительно к среднеазиатским владениям России. Хронологические рамки определены XIX в., поскольку к этому времени завершилось утверждение Российского государства официально и фактически в статусе империи и на данной основе в его геополитике возрастает значение среднеазиатского региона как платформы по расширению влияния на восточных соседей.
Следует признать рациональной позицию Л. А. Тихомирова, высказывавшего принципиальное мнение о естественной и ненасильственной природе имперской власти и на примере Рима утверждавшего, что императоры не присваивали себе верховную власть и не представляли ее независимой от народа. По факту у них сосредотачивалась власть военная, и в качестве princeps сената они председательствовали в законодательном собрании, в исполнительных же структурах они концентрировали в своих руках несколько высших должностей. Тем не менее, императорская власть оставалась не верховной, а лишь делегированной от народа. Как при республике «народ поручал всю управительную власть аристократии, так он передавал теперь всю власть Кесарю» [Тихомиров, 1998, с. 122]. Следовательно, империя может быть и не деспотической – в случае поддержания существенных элементов традиционного самоуправления присоединяемых территорий в виде общественно-территориальных, корпоративных или сословных форм. Учитывая же, что imperium обозначал концентрацию исполнительной власти, непосредственно осуществляющей государственное управление силами развитой бюрократии, стоит идентифицировать имперскую природу политических сообществ с эволюцией бюрократии и институционализацией административной системы в центре и присоединяемых территориях.
В силу многофакторной специфики включаемых в состав России территорий государственное устройство характеризовалось различными формами: от непосредственного подчинения центру до национально-территориального самоуправления на основе выборов от местного социума, причем принципиально в сочетании со сложившимися общеимперским, особенным или надведомственным и особым применительно к разнородным периферийным территориям управлением с присущими ему элементами автономии. Потому внутри государственно-бюрократического механизма следует выделять дополнительно модели-режимы территориально-регионального управления с учетом сочетания в различном объеме централизации, автономизации, децентрализации, деконцентрации и региональной локализации в отношении отдельных регионов. Политическая линия на нивелирование местных особенностей региона и методы, с помощью которых шло освоение новых земель, зависели от интегративных возможностей, перспективности хозяйственного развития, военного и политического потенциала вновь присоединяемых территорий. Обратим внимание, что именно автономизм, а не автономность следует считать более точным определением по смыслу государственного устройства империи, учитывая ее унитарность и абсолютистский, самодержавный характер государственной власти в России, тем более что согласно классическому определению «автономия – право самостоятельного законодательства» [Словарь…, 1906, с. 55].
На наш взгляд, уже со второй половины XVII в. в России началось утверждение имперской государственности, которая, в свою очередь, детерминировала подходы, направления и реформы относительно новых территориальных владений. Россия в отличие от колонизаторского подхода государств Западной Европы поэтапно включала новые территории, во многом «в силу чисто политических побуждений, как необходимое условие обеспечения своего могущества и независимости» [Коркунов, 1897, с. 180–181]. При этом присоединение «каждый раз ставило перед властью проблему его интеграции в общую правовую и административную систему» [Дякин, 1998, с. 15]. Можно утверждать, что в определении предметности интеграции периферии значительную роль играл их политико-правовой опыт как перспективный инструментарий сохранения стабильности в этом регионе и имперской административной системе в целом. Дальнейшая трансформация регионально-институционального моделирования-измерения обусловливалась тем, что Россия постепенно инкорпорировала новые территории, задействуя различные варианты включения периферийных регионов, поскольку их население состояло в различных укладах общественно-политического, экономического и культурного развития.
В результате можно признать, что к середине XIX в. сложились и действовали до начала XX в. определенные модели регионального управления, определяющими факторами которых стали особенности правового регулирования социума в различных территориях и степень непосредственного участия монарха в местном управлении, причем их действие детерминировалось официально признаваемой цивилизаторской миссией. Институциональная рационализация регионального управления занимает самостоятельное место в механизме государства с совершенствованием системы права как юридического инструмента упорядочения сформировавшегося многоэтничного, поликонфессионального и многоукладного социальнополитического сообщества. Согласимся, что постепенно сущность государственного управления изменялась от самодержавно-земского к самодержавно-бюрократическому [Богословский, 1918, с. 31], поскольку создание и реализация различного рода правовых актов также становилась функцией бюрократии центрального, регионального и местного уровней. Под- водя итог вышесказанному, в качестве интегрирующей идеи отразим сложившиеся модели национально-регионального управления: национально-автономистская (Царство Польское, Финляндия), территориально-автономистская (Остзейские губернии, Западный край, Малороссия), смешанная (Сибирь), министерско-губернская (внутренние губернии), региональнонаместническая (Бессарабия, Кавказ, Средняя Азия) [Красняков, 2011].
К середине XIX в. среднеазиатский вопрос занимал самостоятельное место в восточной геополитике империи, его значение определялось не столько интересами промышленного и торгового развития, сколько необходимостью устойчивого влияния на государства азиатского региона. В 1854–1865 гг. в ходе военных и дипломатических действий передовая оренбургская и сибирская границы были замкнуты, и Россия получила плацдарм для сосредоточения достаточного количества войск. Они стали гарантом авторитета империи в Средней Азии в отношении населенных множеством мусульманских этносов феодальных княжеств-ханств.
Согласно приказу военного министра 1865 г. управление образованной Туркестанской областью поручалось особому военному губернатору, на которого также возлагалось и командование расположенными там войсками. Подчеркивалось двойное подчинение должностного лица – в военном отношении командующему войсками Оренбургского края, в гражданском – оренбургскому генерал-губернатору [Романовский, 1868, с. 107, 153]. Уже имевшийся у центральной власти опыт управления сложносоставным социумом на Кавказе, в среднеазиатских территориях сталкивался с новыми условиями: мусульманская вера населения и множество мелких ханств, к каждому из которых необходимо проводить адекватную политику сближения или вовсе присоединения. Также в 1865 г. принято Временное положение об управлении Туркестанским краем (ПСЗ-II, 1867, т. 40, № 42373), закрепившее начала функционирования региональной администрации. Вся власть была сосредоточена у военного начальства, на административные органы возлагался лишь надзор за населением, его внутренний быт гарантировался прежним.
В 1866 г. после инкорпорации стратегического по значимости Ташкента [Материалы к исследованию…, 1912, с. 47] вопрос о статусе региона предлагается решить двумя путями, различающимися принципиально. Так, оренбургский генерал-губернатор Крыжановский желал сохранить прежний курс и образовать полунезависимую административно-территориальную единицу по типу протектората. Вариант командующего войсками генерала Черняева предусматривал необходимость полного присоединения [Романовский, 1868, с. 66]. Учрежденный в 1867 г. Александром II специальный комитет во главе с военным министром признал необходимым, кроме устройства пограничного края в виде Туркестанского генерал-губернаторства из Семиреченской 1 и Сыр-Дарьинской областей, руководствоваться уже показавшими эффективность в регионе принципами: соединение административной и военной власти в одних руках и предоставление на основе местных обычаев внутреннего управления самому туземному населению и выборным – по делам, не имеющим политического характера.
Уже в процессе обсуждения учреждения об управлении новым генерал-губернаторством в 1867 г. монарх утвердил предложения Комитета Министров (ПСЗ-II, 1871, т. 42, № 44831), которыми поручалось генерал-губернатору на месте апробировать проект и представить его со своими соображениями для принятия решения. Кроме обозначенного, предусматривалось, что по компетенции военно-народного управления он будет действовать на основании общих предметов ведения и полномочий, предоставленных другим региональным правителям (ПСЗ-II, 1871, т. 42, № 44831). Практика реализации акта расширила власть генерал-губернатора: предоставлено право приводить к присяге желающих вступить в русское подданство и поощрять медалями местное население за усердие (Отчет по ревизии…, 1910, с. 10).
Областной уровень администрации включал военного губернатора с правами и обязанностями губернаторов по общеимперским учреждениям, по командованию войсками – на осно- вании положения о местном военном округе, а также областные правления из трех отделений – распорядительного, хозяйственного и судебного. В качестве коллегии оно объединяло власть губернского правления и казенной палаты. Широта компетенции областного правления проявлялась в том, что как гражданская палата оно рассматривало дела, превышающие компетенцию мировых судей; как коммерческий суд – дела, относящиеся к их компетенции; как уголовная палата – дела о преступлениях по службе и даже выступало в роли мирового съезда, вынося окончательные решения.
Следующей ступенью являлось уездное управление, которое поручалось в административном и полицейском отношениях единоличной власти уездного начальника, на правах уездного исправника, вплоть до распоряжения войском. На основе выборности местное самоуправление по вопросам податей, судопроизводства и административных дел закреплялось раздельно для кочевого и оседлого населения, при этом для первых предусмотрены аульная и волостная инстанции, для вторых – лишь аксакальская на уровне волости. Генерал-губернатор в случае злоупотреблений или ненадлежащего исполнения обязанностей мог отстранять волостных управителей от должности, а уездный начальник таким же образом мог принимать меры к аульным старшинам.
Вводится иное судебное устройство из судов трех видов: военного, народного и общеимперского гражданского. Учрежденными органами стали уездный судья, военно-судебные комиссии, областные правления, состоявшие в подчинении Сената. В районах кочевого и полукочевого проживания создан народный суд с выборным бием. Выборные должностные лица проходили утверждение губернатором, жалованьем им определялся бийлык – десятая доля присуждаемой по иску суммы. Существовали три инстанции народного суда: единоличные суды биев, волостные суды биев, чрезвычайные съезды биев, действовали они гласно и публично, что подтверждало линию правительства на передачу в руки народа большей части управления (Отчет по ревизии…, 1910, с. 15). Однако стремление руководствоваться стратегическими задачами по интеграции края и далее, по влиянию на сопредельные государства, подкреплялось незначительными реальными возможностями. Последствия сложившейся административной практики оказались таковы, что ознакомление с делами региона было в целом случайным и кратковременным – ни один из быстро сменявшихся генерал-губернаторов за десятилетие 1858–1868 гг. так и не успел объехать всего генерал-губернаторства [Романовский, 1868, с. 33–34].
Переход к следующей вехе в интеграции среднеазиатских владений связан с налаживанием связей протектората с соседними ханствами, причем некоторые вошли в состав России, вследствие чего были созданы условия для дальнейшей унификации административной организации. Так, прежде находящееся под протекторатом Бухарское ханство по итогам договора 1873 г. попало под больший контроль, хотя и сохраняло некоторые льготы и привилегии. Созданное здесь в 1885 г. императорское политическое агентство и специальный представитель центра не имели права вмешиваться во внутренние дела, но имели полномочие контролировать внешнюю политику, военное и внешнеторговое положение [Терентьев, 1906, с. 281–284; Халфин, 1965, с. 330–335]. В судебной комиссии, состоявшей из политического агента и высшего чиновника местной администрации куш-беги, рассматривались по взаимному согласию сторон возникавшие между российскими и бухарскими подданными уголовные и гражданские дела (Всеподданнейший доклад…, 1910, с. 106–107). В начале XX в. генерал-губернатор предложил императору способствовать «мирному слиянию ханства с прочими областями края на началах однородного с ними административного устройства» (Всеподданнейший доклад…, 1910, с. 108).
Покорение Хивинского ханства завершилось заключением мирного договора 1873 г., оно также получило статус протектората [Абдулатипов и др., 1992, с. 47]. Деятельность хана стала контролироваться Диваном из четырех представителей имперской администрации и трех назначаемых генерал-губернатором представителей Хивы, при этом решения Дивана под руководством хана подлежали утверждению генерал-губернатором. По договору хивинские территории по правому берегу Амударьи отходили Российской империи, русским предоставлялось право свободного проживания здесь и беспошлинной торговли, хан обязывался за 20 лет выплатить 2 200 000 руб. военной контрибуции. В это же время (в 1875 г.) договором в результате завоевания Кокандского ханства к России присоединена его северная часть по правому берегу Нарыны, с городом Наманганом с вхождением в состав генерал-губернаторства. В 1876 г. присоединено другое ханство под наименованием Ферганской области. В 1880 г. мирно занят Асхабад, в итоге чего территориальные приобретения Ахал-Текинского оазиса образовали Закаспийскую область, до 1890 г. остававшиеся частью Кавказского наместничества.
В 1871 г. генерал Кауфман выступил с проектом реформирования региональной администрации с учетом местных условий и постепенным их нивелированием [Васильев, 2014, с. 6], стремясь к унификации на основе выработанных для остальных территорий империи норм. Поскольку генерал-губернаторская власть не в силах единолично выполнить контроль и надзор, он считал нужным учредить коллегиальный орган управления – совет, включающий представителей различных министерств во главе с генерал-губернатором. Совет наделялся бы полномочиями, предоставленными Комитету министров, чтобы по каждой сфере управления он являлся подразделением министерства в регионе. Но проект не был согласован министерствами, поскольку подобные решения уже обнаружили свою нежизнеспособность на Кавказе, отчего и там были отменены. Последующая ревизия края во главе с тайным советником Гирсом и обсуждение ее итогов в 1884 г. подтвердили противоречивость основ административной системы региона и необходимость более соответствующего местным нуждам гражданского управления, которое бы прочно закрепило край за Россией и уменьшило расходную часть управления, увеличив доходы (Отчет по ревизии…, 1910, с. 28–29).
В итоге в 1886 г. утверждено Положение об управлении Туркестанского края (ПСЗ-III, 1888, т. 6, № 3814), устанавливающее единообразные начала судебной системы, систем землевладения и землепользования, налогообложения, политико-административного устройства этого региона империи, что, по замечанию генерал-губернатора барона А. Б. Вревского, закрепляло «прочное основание законодательному устроению местного быта» 2. Согласно сложившемуся нормативному регулированию к концу XIX в. край включал пять областей: Сыр-Дарьинскую, Ферганскую, Самаркандскую, Семиреченскую и Закаспийскую. Области примерно в одинаковой степени состояли под надзором генерал-губернатора. Общее управление генерал-губернаторством, кроме государственного контроля, учебного и почтово-телеграфного, обозначалось предметом ведения военного министерства по типу кавказского региона, что фиксировало определенно особый должностной статус генерал-губернатора. Дополнительно им решались: отношения с Бухарой и Хивой; утверждение торгов и порядка производства дел по казенным сооружениям; высылка неблагонадежных лиц; принятие туземцев в подданство; опротестовывание в соответствующих министерствах постановлений совета, и давалось право в неотлагательных случаях под свою ответственность приводить их в исполнение. Особо нужно заметить, что региональный правитель мог изменять, ограничивать и отменять общеимперское законодательство в подведомственных территориях [Кар-пенкова, 2016, с. 105].
Исполнительный орган края – канцелярия состояла из трех отделений: по вопросам управления и личного состава; по земельным вопросам, налогам, по делам строительства, связи, просвещения и медицины; по финансам, статистике, землям, вакуфному имуществу, по контролю за иностранными подданными; особый отдел занимался решением вопросов с российскими протекторатами – Бухарой и Хивой. Нижестоящие областные правления находились в ведении военных губернаторов и регулировали дела по землевладению, землепользованию, водопользованию, устанавливали и собирали налоги, контролировали деятельность городской и сельской администраций в уездах, вели городское хозяйство.
Туркестанское административное управление продолжало относиться к военно-народному, поэтому города здесь не пользовались правом самоуправления. Оседлые поселения, кочевые селения сохранили традиционность самоуправления по нормам адата и шариата. Продолжил функционировать народный суд, осуществлявший судопроизводство среди кочевников по обычному праву, среди оседлых – по мусульманскому праву. Положением об управлении Акмолинской, Семипалатинской, Семиреченской, Уральской и Тургайской областями предусматривалось, что на крестьянских и инородческих начальников возлагались обязанности «по общему наблюдению за инородческим управлением и народным судом, а также попечению о нуждах инородцев» [Материалы к исследованию…, 1912, с. 179]. Иначе говоря, региональная административная система включала губернии-области, военные округа, уезды, специфические мусульманские волости, кроме того, генерал-губернатор сочетал военное и гражданское управление, что позволяет сделать вывод о схожести Туркестанского генерал-губернаторства с наместничеством по типу Кавказа.
Положением оговаривалось, что судебные учреждения в регионе в принципе трансформируются на основании общих правил по Судебным уставам, однако действие общеимперского права постоянно уточнялось разъяснениями Сената, а в дальнейшем и изменялось внесением дополнений в законодательство в случае возникновения потребности. В судопроизводстве закон допускал в отдельных случаях разрешение споров не по общим законам империи, «потому что наследственное право магометан имело свои основы по преимуществу в их бытовых и религиозных особенностях». И напротив, гражданские права не имели взаимосвязи со своеобразием юридического быта их наследственного права и определялись общеимперским законодательством. В разъяснениях Правительствующего Сената по вопросу о пределах применения мусульманского права судьям предписывалось, что «имеются лишь льготные постановления, которыми облегчается оформление прав туземцев на принадлежащие им по местным воззрениям земли» [Материалы к исследованию…, 1912, с. 239–242]. Последующее отделение от военно-административного управления судебной власти по Положению 1886 г. превращало последнюю в независимую даже от главы региона, что повлекло обращение генерал-губернатора в центр, и потому в дальнейшем по Временным правилам о применении судебных уставов 1864 г. в Сыр-Дарьинской, Самаркандской, Ферганской, Семиреченской, Акмолинской, Семипалатинской, Уральской и Тургайской областях с 1898 г. изменена структура судебных органов. Четко зафиксированы полномочия мировых судей, съездов мировых судей, окружных судов, судебных палат и верховного кассационного суда – Правительствующего сената, отдельно оговаривалось влияние мусульманского населения на суд.
Духовная сфера жизнедеятельности туземцев находилась в ведении общих законов, закреплявших дела христиан иностранных исповеданий и иноверцев за министерством внутренних дел, с оговоркой, что не представленные в Учреждениях и Уставах иные дела и случаи решаются монархом (Свод законов, 1896, п. 13, 15). Соответственно, в крае управление духовными делами мусульман принадлежало их высшему и приходскому духовенству. Решения Духовного руководства должны были исполняться на местном и русском языках, с указанием оснований – российских и мусульманских норм. Если решение превышало данную Духовному правлению власть, нужно было через губернатора обращаться в министерство внутренних дел или Сенат по компетенции (Свод законов, 1896, п. 1342, 1404).
Нехватка квалифицированных кадров гражданского управления, значительное действие структур самоуправления способствовали обращению в 1895 г. генерал-губернатора А. Б. Вревского с ходатайством о предоставлении «главному начальнику края прав и власти, какой пользуются генерал-губернаторы в местностях, объявленных на положении усиленной охраны» 3. Наряду с внедрением институтов имперской власти и права, он предлагал и «более широкое водворение в нем русских переселенцев-крестьян», тем более что крестьянское пе- реселение возникло стихийно вслед за образованием Туркестанского генерал-губернаторства 4. И указом 1897 г. (ПСЗ-III, 1900, т. 17, № 14818) решено следовать доказавшим эффективность на Кавказе нормам по структуре региональной администрации. В частности, учреждена должность помощника командующего Туркестанского военного округа, подобно помощнику Главноначальствующего гражданской частью на Кавказе, что в случае отбытия генерал-губернатора из региона или продолжительной болезни, позволяло помощнику исполнять его обязанности. Компетенции помощника ставились в прямую зависимость от личного усмотрения генерал-губернатора и ограничивались лишь определенными статьями, в основном о принятии чрезвычайных мер. Соответственно, как и на Кавказе, здесь сохранялось значительное наместническое, «личное начало» высшего должностного лица в регионе, обусловленное обширными пространствами, отсутствием удобных путей сообщения, немногочисленностью гражданской администрации. И это при том, что нужно было создавать порядок управления, позволявший «туземному населению видеть в русской администрации защитников от произвола местной аристократии и одновременно не оттолкнуть знать от новой власти» [Тихонов, 2010, с. 328], отчего порождались новые идеи относительно управления регионом.
В разработанном к 1905 г. проекте управление регионом передавалось в министерство внутренних дел на основе губернской административной системы империи (Отчет по ревизии…, 1910, с. 34, 232), но до 1917 г. существенных изменений не осуществлено. И всё же подчеркнем, функционирование имперской администрации способствовало тому, что к началу XX в. восприятие русских и России местным населением претерпело существенные изменения – из образа «врага и завоевателя» трансформировалось в образ «сильного и мудрого покровителя» [Лисицына, 2014, с. 29].
Можно заключить, что в имперских государствах бюрократия консолидирует преимущественно общегосударственные дела, тем самым способствуя постепенной потере связей согласования-координации субъектов многоукладного социума. Только жизнеспособность санкционированных обычных общественно-территориальных институтов и преемственность жизненных укладов могут тормозить такой кризис. Автономизм в управлении разнородными регионами превратился в элемент правоприменительной практики и был закреплен законом, при этом центр, внутренние губернии играли роль стабилизирующей и обеспечивающей «критической массы» в общих интересах всех этносов.
Интересы Российской империи в Средней Азии к середине XIX в. имели самостоятельное значение в расширении территориальных пределов и были обусловлены прежде всего настойчивой потребностью обеспечения влияния империи на государства азиатского региона. Полученная в ходе военных и дипломатических действий в период 1854–1865 гг. территория России для сосредоточения здесь достаточного числа войсковых формирований создавала гарантии роста авторитета империи среди государств Средней Азии.
Приказом военного министра в 1865 г. общее управление образованной Туркестанской областью поручалось особому военному губернатору при его двойном подчинении: министерствам внутренних дел и военному. С 1867 г. генерал-губернатор наделялся правом ведения дипломатических отношений, соответственно его компетенция в начальный период интеграции региона была более широкой, и он был менее зависим от центра. Постепенно достигнутая определенная стабильность в крае в ходе реализации Положения 1867 г. и иных актов по управлению отдельными областями края, завоевание и мирное присоединение некоторых ханств, а также оформление отношений протектората Российской империи с Бухарой и Хивами сформировали предпосылки для унификации государственного управления среднеазиатскими владениями. С принятием Положения об управлении Туркестанского края 1886 г. в регионе внедряются начала единообразной административной системы, устанавливающие основы судопроизводства, систем землевладения и землепользования, налогообло- жения, политико-административного устройства, но при этом региональный правитель мог изменять, ограничивать и отменять общеимперское законодательство в подведомственных территориях, что по образцу кавказских территорий налагало особый отпечаток на должностной статус регионального правителя.
Список литературы Интеграция среднеазиатских территорий в систему национально-регионального управления Российской империи (XIX век)
- Абдулатипов Р. Г., Болтенкова Л. Ф., Яров Ю. Ф. Федерализм в истории России. М.: Республика, 1992. Кн. 1. 383 с.
- Богословский М. М. Из истории верховной власти в России. 2-е изд. Пг.: Задруга, 1918. 34 с.
- Васильев Д. В. Организация управления в русском Туркестане по проектам положения об управлении 1870-х гг. // Науковедение. 2014. № 5 (24). URL: http://naukovedenie.ru/PDF/ 168EVN514.pdf (дата обращения 12.01.2021).
- Дякин В. С. Национальный вопрос во внутренней политике царизма (XIX – начало ХХ века). СПб.: ЛИСС, 1998. 1000 с.
- Кантор В. К. Санкт-Петербург: Российская империя против российского хаоса: к проблеме имперского сознания в России. М.: РОССПЭН, 2007. 541 с.
- Карпенкова Т. В. Институт генерал-губернаторства как форма управления многонациональными окраинами (на примере Туркестанского края Российской империи) // Вестник Международного института экономики и права. 2016. № 1 (22). С. 99–107.
- Каспэ С. И. Империя и модернизация. Общая модель и российская специфика. М.: РОССПЭН, 2001. 256 с.
- Кодан С. В. Юридическая политика Российского государства в 1800–1850-е гг. Екатеринбург: УрАГС, 2004. 324 с.
- Коркунов Н. М. Русское государственное право. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1987. Т. 2: Особенная часть. 589 с.
- Красняков Н. И. Имперский фактор в государственном управлении России XVIII – начала XX в. М.: Nota Bene, 2011. 374 с.
- Лаптева Л. Е. Региональное и местное управление в России (вторая половина XIX в.). М.: Изд-во ИГиП РАН, 1998. 151 с.
- Лисицына Н. Н. Расширение Российской империи в Центральной Азии и восприятие русских и России населением Туркестана (вторая половина XIX в.) // Локус: люди, общество, культуры, смыслы. 2014. № 2. С. 26–30.
- Материалы к исследованию колонизационных районов Азиатской России / Под ред. Б. А. Федченко. СПб., 1912. 216 с.
- Национализм в мировой истории / Под ред. В. А. Тишкова, В. А. Шнирельмана. М.: Наука, 2007. 601 с.
- Романовский Д. И. Заметки по средне-азиатскому вопросу. С приложениями и картой Туркестанского генерал-губернаторства. СПб.: Тип. II Отд. Собств. Е. И. В. канцелярии, 1868. 293 с.
- Словарь юридических и государственных наук. СПб., 1906. 328 с.
- Терентьев М. А. История завоевания Средней Азии. СПб.: Тип. В. В. Комарова, 1906. Т. 2. 672 с.
- Тихомиров Л. А. Монархическая государственность. М.: Облиздат, Алир, 1998. 672 с.
- Тихонов А. К. Организация государственного управления западными и южными окраинами Российской империи второй половины XIX – начала XX в. // Труды исторического факультета Санкт-Петербургского университета. 2010. № 1. С. 314–332.
- Халфин Н. А. Присоединение Средней Азии к России. М.: Наука, 1965. 468 с.
- Шульженко Ю. Л. Очерк российского конституционализма монархического периода. М.: Ин-т гос. и права РАН, 2008. 144 с.
- Всеподданнейший доклад Туркестанского генерал-губернатора о положении Туркестанского края в 1909 году. Ташкент, 1910. 58 с.
- Отчет по ревизии Туркестанского края, произведенной по Высочайшему повелению сенатором гофмейстером графом К. К. Паленом. Краевое управление. СПб.: Сенат. тип., 1910. 270 с.
- ПСЗ-II – Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. СПб.: Тип. II Отд. Собств. Е. И. В. канцелярии, 1867. Т. 40. 949 с.; 1871. Т. 42. 1261 с.
- ПСЗ-III – Полное собрание законов Российской империи. Собрание третье. СПб.: Гос. тип., 1888. Т. 6. 1209 с.; 1900. Т. 17. 1571 с.
- Свод законов Российской империи. СПб., 1896. Т. 11, ч. 1: Уставы Духовных Дел Иностранных Исповеданий, изданные в 1896 г. 406 с.