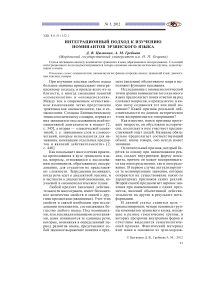Интеграционный подход к изучению номинантов эрзянского языка
Автор: Цыганкин Дмитрий Владимирович, Гребнева Александра Михайловна
Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu
Рубрика: Образование и культура
Статья в выпуске: 3 (68), 2012 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу номинантов эрзянского языка, образованных опосредованно. С позиций интеграционного подхода рассматриваются четыре основные ономасиологические группы, существующие в языке.
Семасиология, ономасиология, финно-угорские языки, эрзянский язык, диалектная лексика, говоры
Короткий адрес: https://sciup.org/147136883
IDR: 147136883 | УДК: 811.511.152.1
Текст научной статьи Интеграционный подход к изучению номинантов эрзянского языка
При изучении лексики любого языка большое значение принадлежит интеграционному подходу, и прежде всего из-за близости, а иногда смешения понятий «семасиология» и «ономасиология». Между тем в современном отечественном языкознании четко представлена трактовка как ономасиологии, так и семасиологии. Согласно Лингвистическому энциклопедическому словарю, первая из них занимается «исследованием всей номинативной деятельности в языке» [2, с. 345], а вторая — «лексической семантикой, т. е. значениями слов и словосочетаний, которые используются для называния, номинации отдельных предметов и явлений действительности» [2, с. 440].
Как показывает многолетняя практика преподавания в вузе эрзянского языка, вопросы, относящиеся к исследованию номинантов, образованных опосредованно, для студентов не представляют сложности. Затруднения возникают, когда речь идет о диалектной лексике, и в частности о диалектной синонимии, изучаемой в ономасиологическом плане.
Любой предмет (явление) действительности многогранен, имеет бесконечное количество свойств и связей с другими предметами (явлениями). Учет этих свойств и связей необходим при исследовании номинантов, составляющих богатство любого языка. Под номинантами, или лексикализованными сочетаниями, нами понимаются те единицы речи, которые, возникнув в определенный период развития языка, представляют собой звуковое выражение понятия о пред мете (явлении) объективного мира и выполняют функцию называния.
Исследование с ономасиологической точки зрения номинантов того или иного языка предполагает поиск ответов на ряд сложных вопросов, и прежде всего: в какую эпоху создавался тот или иной номинант? Какой признак реальной действительности на данном историческом этапе воспринимается говорящими?
Как известно, поиск признака протекает непросто, он обусловлен исторически, поскольку в нем участвует предшествующий опыт людей. Название обязательно предполагает соответствующий объект, иначе говоря, оно всегда имеет значение.
Отличительный признак, который берется за основу при наименовании реалии, создает внутреннюю форму номинанта, причем он может восприниматься как непосредственно, так и опосредованно. В первом случае актуализируются те мотивирующие значения, которые опираются на существование каких-то характерных признаков самих реалий. Второй способ предполагает перенос значения при наименовании с одних предметов, явлений объективной действительности на другие в результате мета-форизации.
В данной статье ставится цель — проанализировать четыре основные группы номинантов эрзянского языка, входящие в разные тематические группы, в которых прозрачна внутренняя форма и отчетливо выделяется семасиологический признак. Фактический материал взят нами в основном из эрзя-мордов-
ского литературного языка, а также из говоров. Сбор диалектологического материала нами проводится планомерно (работа начата авторами в 1980 г.) в период летних диалектологических практик с аспирантами и студентами. Собранный материал хранится в картотеке лаборатории «Финно-угристика» МГУ им. Н. П. Огарева.
Наименования, базирующиеся на прямом восприятии цветовых признаков именуемых реалий
В таких названиях определяющую роль играют прилагательные, указывающие на цвет, который является основным внешним признаком именуемого объекта. Как правило, в номинантах прилагательные выполняют функцию атрибута. Для разграничения сосуществующих параллельно подобных названий и синтаксических определительных словосочетаний используется дополнительный контекст. Простая трансформация наименования, без опоры на него, не может объяснить значение лексикализованного сочетания, а следовательно, затрудняет его правильное употребление. Кроме того, в некотрых номинантах, например, asE pr’a c’ec’a (дрк.) ‘ромашка’ и asa pr’a c’ec’a (шгр., ппл.) ‘тысячелистник’ (букв. белая-голова-цветок); сэнь пря цеця (э. л.) ‘василек’ и sEn’ br’a c’ec’a (отр., б.мрс., рмз., дрк.) ‘живокость полевая’ (букв. синяя-голова-цветок), усматривается смешение двух понятий. Из приведенных примеров явствует, что речь в том и другом случае идет о двух номинантах, которые воспринимаются носителями эрзянских говоров неоднозначно. Без учета диалектных лексических данных, исходя только из формальной стороны, объяснить феномен номинанта трудно. Возможно неправильное употребление того или иного наименования.
В процессе познания окружающего мира человек отбирает определенный признак из массы имеющихся у данного объекта, которые могут быть положены в основу наименования. Так, например, слово сэнь ‘синий’ стало компонентом ряда номинантов-фитонимов: сэнь бая-га (э. л.) ‘прострел раскрытый’, ‘колокольчик’ (букв. синий-колокол), сэнь ин-зей (э. л.) ‘ежевика’ (букв. синяя-мали-на), сэнь умарь (э. л.) ‘голубика’ (букв. синяя-ягода), сэнь цеця (э. л.) ‘василек’ (букв. синий-цветок), сэнь пря цеця (э. л.) ‘василек’ (букв. синяя-голова-цветок).
В лексикализованных сочетаниях довольно распространенными определительными элементами выступают следующие прилагательные:
-
1) ожо ‘желтый’. Данное слово достаточно активно включается в орбиту образования народных названий растений, например: ожо цеця (э. л.) ‘одуванчик’, ‘купальница европейская’ (букв. желтый-цветок), ozo pr’a nar’t’emks (прм.) ‘тмин’ (букв. желтая-голова-по-лынь), ozo pr’a (бтш., слщ.ич.) ‘мать-и-мачеха’ (букв. желтая-голова), ozo t’ikse (сбв.) ‘сурепица’ (букв. желтая-трава), ozo cufto (Paasonen) ‘крушина’ (букв. желтое-дерево), ozo c’vetka (слщ.ич.) ‘кубышка желтая’ (букв. желтый-цветок), vecE kasE oze c’ec’a (дрк.) ‘кубышка желтая’(букв. в воде-растущий-жел-тый-цветок), ожо орма (э. л.) ‘желтуха’ (букв. желтая-болезнь), ожо пуло (э. л.), ozo pulo (Paasonen) ‘иволга’ (букв. желтый-хвост), ozo narmun’ (Paasonen) ‘иволга обыкновенная’ (букв. желтая-птица), ozo pr’a-guj (Paasonen) ‘уж’ (букв. желтая-голова-змея) и т. д.;
-
2) тюжа ‘коричневый’: тюжа пря тикше (э. л.) ‘куриная слепота’ (букв.: коричневая-голова-цветок), t’uza glaskat (м.двд.) ‘ромашка аптечная’ (букв. ко-ричневые-глазки), t’uzapaqgo (сбв.) ‘рыжик (гриб)’ (букв. коричневый-гриб), tuza pans (брзн.) ‘кубышка желтая’ (букв. коричневый-цветок) и др.;
-
3) пиже ‘зеленый’: пиже ватракш (э. л.) ‘лягушка травяная’ (букв. зеленая-лягушка), пиже навамот (э. л.) ‘коровяк черный (растение)’ (букв. зеленые-опускания), пиже нармунь (э. л.) ‘синица’ (букв. зеленая-птица), пиже сукс (э. л.) ‘гусеница’ (букв. зеленый-червь), пиже панго (э. л.) ‘зеленушка (гриб, растущий в сосновом лесу поздней осенью)’ (букв. зеленый-гриб), пиже пекарь (э. л.) ‘ряска’ (букв. зеленая-пле-
- сень) и т. д. По сравнению с предыдущими данное прилагательное малоупотребительно;
-
4) якстере ‘красный’: jaks’t’er’e tutma (Paasonen) ‘снегирь’ (букв. красный-желудок), jaks’t’er’e narmuska (Paasonen) ‘снегирь’ (букв. красная-птичка), jaks’t’er ’e m ’est ’in e (Paasonen) ‘малиновка (птица)’ (букв. красная-груд-ка); jaks’t’er’e poc’emka t’ikse (дрк.) ‘клевер луговой’ (красный-сосание-тра-ва), jaks’t’er’e paqgz(б.тлк) ‘сыроежка’ (букв. красный-гриб) и др.;
5) раужо ‘черный’: раужо шукшто-ров (э. л.) ‘черная смородина’, раужо панго (э. л.) ‘черный груздь’, rauzo paqgi (б.тлк.) ‘свинушки’ (букв. черный-гриб), ravza pojin’ paqga (шгр.) ‘груздь настоящий’ (букв. черной-осины-гриб), раужо умарь (э. л.) ‘черника’ (букв. черная-ягода), раужо гуй (э. л.) ‘гадюка’ (букв. черная-змея), rau ze jozn e (сбн.) ‘гадюка’ (букв. черная-змея), раужо пуло (э. л.) ‘горностай’ (букв. черный-хвост). Название ежевики представлено следующими фонетическими вариантами, которые характерны для эрзянских говоров: ravza in’z’ej (кр.зрк.) / ravzo in’z’ej (прд.) / rauzo in’z’ej (смк.) / ravzE in’z’eq (дрк.) (букв. черная-малина);
-
6) ашо ‘белый’. Нужно отметить, что внутренняя форма в наименованиях c этим прилагательным, как правило, ясно воспринимается, «живая», семантическая связь мотивирована целым комплексом признаков. Например, ромашка именуется как ашо пря (э. л.) (букв. белый-цветок), ашо пря цеця (э. л.) (букв. белая-голова-цветок), asa tatiska (гзн.) (букв. белый-цветок), aso pr’a-t’ikse (Paasonen) (букв. белая-голова-трава); тысячелистник — ашо пря (э. л.) (букв. белая-голова), aso pr’a nar’t’emks (блд.) (букв. белая-голова-полынь), asa pr’a c’ec’ka (шгр., ппл.) (букв. белая-голова-цветок), aso tataska (прд., слщ.ат.) (букв. белый-цветок); плотва — ашо кал (э. л.) (букв. белая-рыба); белая трясогузка — ашо меште (э. л.) (букв. белая-грудь); лебедь — ашо мацей (э. л.) (букв. белый-гусь); олово — ашо киве (э. л.) (букв. белое-олово); пе
сец — ашо ривезь (э. л.) (букв. белая-лиса); личинка — ашо сукс (э. л.) (букв. белый-червь); платина — ашо сырне (э. л.) (букв. белое-золото); мрамор — ашо кев (э. л.) (букв. белый-камень); груздь — ашо панго (э. л.) (букв. белый-гриб); клевер розово-белый — as e poc ’emkaj (дрк.) (букв. белое-сосатель-ное); капустница — ашо нимиляв (э. л.) ‘белая-бабочка’ и т. д.;
-
7) валдо ‘светлый’: валдо сукс (э. л.) ‘светлячок’ (букв. светлый-червь), валдо ям (э. л.) (букв. светлый-суп) ‘кашица, жидкая каша’, валдо чиняз (э. л.) ‘блондин’ (букв. светлый-князь) и др.
Номинанты, базирующиеся на прямом восприятии признаков именуемых реалий, содержащие прилагательные ашо, раужо, ожо, тюжа, пиже, якстере, валдо, свидетельствуют о лексической сочетаемости, опирающейся на их логико-предметные связи. Подобные отношения характерны для тех слов, которые принадлежат одной и той же лексической парадигме и обозначают логически совместимые понятия. Признак, содержащийся в основе сопоставления, является для номинантов главным.
Названия, возникшие в результате прямого восприятия вкусовых качеств именуемых реалий
Образованные по данному принципу номинации лексикализованные сочетания, как правило, в качестве первого компонента включают прилагательные:
-
1) тантей ‘вкусный’: тантей нар-темкс (э. л.) ‘полынь обыкновенная’ (букв. вкусная-полынь), тантей чине цецяка (э. л.) ‘душица обыкновенная’ (букв. вкусный-запах-цветочек), тантей чине галань цеця (э. л.) ‘ромашка пахучая’ (букв. вкусный-запах-гуся-цветок) и др.;
-
2) ламбамо ‘сладкий’, например: ламбамо корён (э. л.) ‘солодка, мокричник’ (букв. сладкий-корень), ламбамо кшумань (э. л.) ‘брюква’ (букв. сладкая-редька), ламбамо сюкоро (э. л.) ‘лепешка на сметане’ (букв. сладкая-лепешка) и т. д.;
-
3) чапамо ‘кислый’: чапамо ведь (э. л.) ‘квас, слабое пиво’ (букв. кислая-вода), чапамо велькс (э. л.) ‘сметана’ (букв. кислые-сливки), чапамо кши (э. л.) ‘ржаной хлеб’ (букв. кислый-хлеб), чапамо ловсо (э. л.) ‘ряженка’ (букв. кислое-молоко), чапамо ловсо тикше (э. л.) ‘кислица обыкновенная’ (букв. кислое-молоко-трава), чапамо панго (э. л.) ‘ложный груздь’ (букв. кислый-гриб), чапамо репс (э. л.) ‘редька’ (букв. кислая-репа), чапамо тикше (э. л.) ‘ярутка полевая’ (букв. кислая-трава) и пр.;
-
4) сэпей ‘горький’: сэпей лопа (э. л.) ‘лопух, лист репейника’ (букв. горький-лист), сэпей марч (э. л.) ‘полынь’ (букв. горькая-лебеда) и др.
Лексический материал данной группы в основном охватывает такие тематические группы, как названия кушаний, названия дикорастущих, культурных растений, наименования грибов и т. д.: лам-бамо кшумань (э. л.) ‘брюква’ (букв. сладкая-редька), lambamo paqga (смк., шгр.) ‘сыроежка’ (букв. сладкий-гриб), lambamo ksi (Paasonen) ‘пресный хлеб’ (букв. сладкий-хлеб), lambamo lovso (Paasonen) ‘свежее молоко’ (букв. слад-кое-молоко), lambamo vel’ks (Paasonen) ‘сливки свежего молока’ (букв. сладкая-сметана), lambamo s ’ukorE (дрк.) ‘лепешка, испеченная на сметане и масле’ (букв. сладкая-лепешка), lambamo sker’ge (дрк., сбн., трс.) ‘щавель конский’ (букв. сладкий-щавель); чапамо кши (э. л.) ‘ржаной хлеб’ (букв. кислый-хлеб), чапамо тикше (э. л.) ‘ярутка полевая’ (букв. кислая-трава), capamo lopa (мл., пнг., крв.) ‘лапчатка прямостоячая’ (букв. кислый-лист), capamo umbrav (лнг.) ‘щавель конский’ (букв. кислый-щавель). На наш взгляд, в данном случае уместным будет привести высказывание Д. Н. Шмелева: «Прилагательные, обозначающие разные цвета, имеют, конечно, различную лексическую сочетаемость. Но конкретное значение их определяется не способностями сочетаемости, а особенностями самих признаков реальных (или воображаемых) предметов, для обозначения которых они служат» [3, с. 71].
Названия, обусловленные местом произрастания, нахождения именуемой реалии
Отличительной особенностью номинантов данной группы является то, что наиболее часто в эрзянском литературном языке определением в них выступают слова:
-
1) мода ‘земля’: мода инзей (э. л.) ‘ежевика’ (букв. земля-малина), мода нумоло (э. л.) ‘тушканчик’ (букв. земля-заяц), мода кудо (э. л.) ‘землянка’ (букв. земля-дом), мода мекш (э. л.) ‘шмель’ (букв. земля-пчела), мода тешкс (э. л.) ‘межа’ (букв. земля-межа) и т. д.;
-
2) пакся ‘поле’: пакся пулокс (э. л.) ‘ковыль перистый’ (букв. поле-хвост), пакся кендял (э. л.) ‘щитник остроголовый’ (мелкое полевое зеленое насекомое, пахнущее клопами)’ (букв. поле-клоп), пакся катка (э. л.) ‘кулик’ (букв. поле-кошка), пакся сараз (э. л.) ‘стрепет’ (степная птица отряда дроф)’ (букв. поле-курица) и т. д.;
-
3) вирь ‘лес’: вирь сараз (э. л.) ‘тетерев’ (букв. лес-курица), вирь туво (э. л.) ‘кабан’ (букв. лес-свинья), вирь повне (э. л.) ‘рябчик’ (букв. лес-куропатка), вирь озяка (э. л.) ‘клест’ (букв. лес-воробей), вирь куро (э. л.) ‘перелесок’ (букв. лес-куст) и др.;
-
4) ведь ‘вода’: ведь катка (э. л.) ‘ондатра’ (букв. вода-кошка), ведь каль (э. л.) ‘лозняк’ (букв. вода-ива), ведь каршка (э. л.) ‘чилим’ (букв. вода-кар-тофель), ведь вальма (э. л.) ‘дымоход’ (букв. вода-окно), ведь варя (э. л.) ‘прорубь’ (букв. вода-отверстие) и пр.
В эрзянских диалектах зафиксировано значительное количество лексикали-зованных сочетаний, образованных по данному принципу. Перечислим некоторые из них: paks’a c’ipaka (сбн.) ‘куропатка’ (букв. поле-цыпленок), moda numU (нмн.пвл., ршт., хлс.) ‘тушканчик’ (букв. земля-заяц), ki krajsE lopa (трс., сбн., андр.ат.) ‘подорожник’ (букв. доро-га-на краю-лист), luga umar’ (дрк.) ‘клубника’ (букв. луг-ягода), moda umar’ (чкл.ард., клвд., пкс.) ‘клубника’ (букв. земля-ягода), mastor umar’ (кчш., клс.) ‘земляника’ (букв. земля-ягода), kastom pizin’e (дрк.) ‘печурка’ (букв. печь-гнездышко), naz’om undza (млс.) ‘навозный жук ‘, paks’a t’ir’n’e (млс.) ‘кузнечик’ (букв. поле-звенеть), s’ed’alks var’a (скв., днк.) ‘место у входа в подвал’ (букв. мост-низ-отверстие), ved’ sorzav (дрк.) ‘молочай’ (букв. вода-осока), sadovoj umar’ (б.тлк.) ‘клубника’ (букв. садовая-ягода) и др.
С точки зрения прямого восприятия признаков реалии к данной группе относятся и миконимические названия, содержащие семантическую модель «чув-то ‘дерево’ > панго ‘гриб’»: тумо панго ‘дубовик’, пиче панго ‘подосиновик’, килей панго ‘подберезовик’, пиче панго ‘груздь’. Имеется небольшое количество наименований грибов, принцип номинации которых индивидуален, например: навоз панго (Евсевьев) ‘шампиньон’. Лексема имеет фонетические варианты: navuz paqga (смк.), naviz paqga (шгр.). Кроме вышеназванных вариантов рассматриваемой лексемы в говорах эрзянского языка зафиксированы: moda potmon’ opinkat (сбв.) (букв. земля-внутренность-опята), moda paqga (гзн.) (букв. земля-гриб), moda potmun’ asa gr’iba (днк.) ‘шампиньон’ (букв. земля-внутренность-белый-гриб); в них отражен основной этап жизни гриба, созревание которого происходит в земле.
Диалектные миконимы, образованные путем вторичной номинации, подтверждают тот факт, что они в основном относятся к эпохе самостоятельного развития эрзянского языка, поскольку образуются по иным семантическим моделям [1].
Приведенный выше перечень наименований свидетельствует об открытой системе лексикализованных сочетаний, которая способствует расширению диалектной синонимии. Обилие диалектных наименований одной и той же реалии можно объяснить тем, что в лексике говоров эрзянского языка по сравнению с литературным языком отражается расширенная детализация явлений действительности. В названии фиксируются тончайшие семантические различия, что и становится причиной большого разнообразия номинаций.
Названия, возникшие в результате прямого осмысления признаков и выраженных действий
Рассматриваемая группа в эрзянском языке довольно продуктивна. Отличительной чертой для таких названий является то, что в них в качестве первого компонента выступает отглагольное имя с суффиксом -ма/-мо: jarcamo tan’s’t’ (Paasonen) ‘аппетит’ (букв. питание-сладость), сukamo k’ev (Paasonen) ‘жернов’, ‘ручная мельница’(букв. встряхивание-камень), I’ed’ma сur’ka (шрм.) ‘дикий лук’ (букв. скашивание-лук), ver’gid’ima kev (скв., днк.) ‘кремень’ (букв. зажигание-камень), lazamo koct (Paasonen) ‘траурный платок’ (букв. рыдание-платок), пувома почка (э. л.) ‘свирель’ (букв. дуновение-стебель), ёзамо тикше (э. л.) ‘пижма обыкновенная’ (букв. натирание-трава), велямо лапат (э. л.) ‘мотовило’ (букв. поворачивание-лапы), карксамо паця (э. л.) ‘украшение, свисающее до пола по бокам’ (букв. опоясывание-платок) и т. д.
Расширяя функциональные возможности отглагольных имен, для которых характерна подобная мотивация, данная группа пополняется образованиями, оформленными а) существительными с суффиксом - кс , б) причастиями:
-
а) pic’i-ks pala-ks (крж.) ‘крапива’ (букв. обжигание-крапива), нартем-кс (э. л.) ‘полынь’ (букв. вытирание), кодор-кс (э. л.) ‘плеть огурца, тыквы, крапивы’ (< кода= ‘плести, сплести)’ и др. Предположительно он восходит к суффиксу *ks со значением ‘предназначенный для чего-либо’ [3];
-
б) канд-ы лов (э. л.) ‘метель’ (букв. несущий-снег), чад-ы ведь (э. л.) ‘половодье’ (букв. вытекающая-вода), ast-’i jalga (Paasonen) (букв. ‘находящаяся-подруга’) ‘девушка из рода невесты, участвующая в сватовстве’, caс-i mastor (Paasonen) ‘Родина’ (букв. рождающая-земля). Следует подчеркнуть, что об отнесении их к разряду имен говорили многие финно-угроведы (Д. В. Бубрих, В. А. Ледяйкина, Е. А. Цыпанов и др.).
Отглагольные имена, вступающие в связь на основе грамматической семан- тики с другими именами, составляют тесное единство, и семантический критерий в подобных наименованиях является главным. При определенной сочетаемости компонентов в номинантах, которая оказывает существенное влияние на развитие нового значения, в эрзянском языке они фигурируют как самостоятельные имена с конкретным фиксированным значением.
Анализ лексического материала показывает, что в номинантах эрзянского языка, образованных в результате прямого осмысления признаков, с точки зрения семантики наблюдается тесная связь лексического значения слова с конкретными свойствами именуемой реалии. Вновь образованные лексемы в какой-то степени опираются на имеющиеся в языке наименования, и место их в лексической системе зависит от существующих в ней отношений и закономерностей. В процессе номинации субъект может отобрать в объекте наименования не один, а ряд признаков, и этот выбор часто носит субъективный характер.
УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
Говоры населенных пунктов: андр.ат. — Андреевка Атяшевского р-на РМ; блд. — Болдасево Ичалковского р-на РМ; брзн. — Березняк Теньгушевского р-на РМ; б.мрс. — Большое Маресе-во Чамзинского р-на РМ; б.тлк. — Большой Толкай Похвистневского р-на Самарской обл.; бтш. — Батушево Атяшевского р-на РМ; гзн. — Гузынцы Большеберезниковского р-на РМ; днк. — Дудни-ково Теньгушевского р-на РМ; дрк. — Дюрки Атяшевского р-на РМ; крж. — Киржеманы Атяшевского р-на РМ; кр.зрк. — Красная Зорька Кочкуровского р-на РМ; клвд. — Кельвядни Ардатовского р-на РМ; клс. — Каласево Ардатовского р-на РМ; крв. — Кураево Теньгушевского р-на
РМ; кчш. — Кечушево Ардатовского р-на РМ; лнг. — Луньга Ардатовского р-на РМ; м.двд. — Мордовское Давыдово Кочкуровского р-на РМ; мл. — Мокшалей Чамзинского р-на РМ; млс. — Мельсетьево Теньгушевского р-на РМ.; нмн.пвл. — Найманы Павловского р-на Ульяновской обл.; отр. — Отрадное Чамзинского р-на РМ; пкс. — Пиксяси Ардатовского р-на РМ; пнг. — Пингелей Чамзинского р-на РМ; ппл. — Папулево Ичалковского р-на РМ; прд. — Парадеево Ичал-ковского р-на РМ; прм. — Пермиси Большеберез-никовского р-на РМ; рмз. — Ремезенки Чамзинского р-на РМ; ршт. — Раштановка Павловского р-на РМ; сбв. — Сабаево Кочкуровского р-на РМ; сбн. — Сабанчеево Атяшевского р-на РМ; скв. — Сакаево Теньгушевского р-на РМ; слщ.ат. — Се-лищи Атяшевского р-на РМ; слщ.ич. — Селищи Ичалковского р-на РМ; смк. — Симкино Больше-березниковского р-на РМ; скв. — Сакаево Теньгушевского р-на РМ; трс. — Тарасово Атяшевского р-на РМ; хлс. — Хлыстовка Павловского р-на Ульяновской обл.; чкл.ард. — Чукалы Ардатовского р-на РМ; шгр. — Шугурово Больше-березниковского р-на РМ; шрм. — Широмасово Теньгушевского р-на РМ.
Прочие сокращения: Евсевьев — Архивный словарный материал М. Е. Евсевьева. — ЦГА РМ; Paasonen — Paasonen, X. Mordwinisches W o rterbuch / X. Paasonen. — Helsinki, 1990— 1996. — I—V; э. л. — эрзянский литературный (Эрзянско-русский словарь. — Москва : Русский язык, Дигора, 1989. — 803 с.).