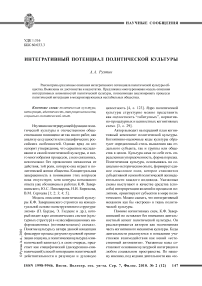Интегративный потенциал политической культуры
Автор: Рухтин А.А.
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Научные сообщения
Статья в выпуске: 2 (12), 2010 года.
Бесплатный доступ
Рассмотрены различные описания интегративного потенциала политической культуры об- щества. Выявлены их достоинства и недостатки. Предложена многоуровневая модель описания интегративных возможностей политической культуры, позволяющая анализировать процессы политической интеграции в модернизирующихся нестабильных обществах.
Политическая культура, интеграция, идентичность, тип рациональности, социально-политический опыт
Короткий адрес: https://sciup.org/14974385
IDR: 14974385 | УДК: 1:316
Текст научной статьи Интегративный потенциал политической культуры
Изучению интегрирующей функции политической культуры в отечественном обществознании посвящено не так много работ, как анализу ее сущности или специфических российских особенностей. Однако вряд ли кто оспорит утверждение, что серьезное исследование и самой политической культуры, и всего многообразия процессов, с нею связанных, невозможно без прояснения механизма ее действия, той роли, которую она играет в политической жизни общества. Концептуальная завершенность в понимании этих вопросов пока отсутствует, хотя контуры возможного ответа уже обозначены в работах К.Ф. Завер-шинского, Ю.С. Пивоварова, Н.И. Бирюкова, В.М. Сергеева [1; 2; 3; 4; 5].
Модель описания политической культуры К.Ф. Завершинского строится на концептуальной основе «конструктивного структурализма» (П. Бурдье, Э. Гидденс и др.), который видит ядро символических систем (культурных структур) в «классификационных информационных (познавательных) схемах». Понятие культуры у автора данной концепции фиксирует процесс разумно-духовной организации социума, а политическая культура («символический капитал»), в свою очередь, предстает как специфический (дискурсивно-символический) способ интеграции политической действительности в разумную и духовную целостность [4, с. 123]. Ядро политической культуры структурно можно представить как «целостность “габитусных”, нормативно-процедурных и ценностных когнитивных схем» [3, с. 29].
Автор выводит на передний план когнитивный компонент политической культуры. Когнитивно-оценочные коды культуры образуют определенный стиль мышления как отдельного субъекта, так и группы или общества в целом. Культура сама по себе есть определенная упорядоченность, форма порядка. Политическая культура, основываясь на социально-историческом опыте, формирует единое смысловое поле, которое становится субъективной основой политической жизнедеятельности каждого индивида. Указанные схемы выступают в качестве средства (способа) интерпретации явлений и процессов политики, ориентируют субъектов в мире политического. Можно сказать, что интегративный механизм как бы «встроен» в ткань политической культуры.
Помимо когнитивных схем, К.Ф. Завер-шинский не оставляет без внимания деятельностный аспект политической культуры. Он рассматривается автором как подчиненная часть когнитивного механизма культуры. Коды деятельности реализуются в поведении участников взаимодействия как некий «естественный автоматизм». Указанные коды составляют основание культурной интеграции в любом социальном пространстве. По нашему мнению, под кодами деятельности как «ес- тественным автоматизмом» автор данной точки зрения подразумевает прежде всего паттерны социально-политического поведения.
В целом данная позиция выявляет интегративный потенциал политической культуры и описывает, как он реализуется, преимущественно в плане сознания. В ней нет четкого описания механизма интеграции на основе деятельностного компонента («кодов деятельности»). Без должного внимания у К.Ф. Завершинского остается и ценностный компонент политической культуры. Упоминание о ценностях присутствует, но за рамками исследования остаются и способы интеграции на их основе, и сам механизм.
Другой вариант интегративного описания политической культуры представлен точкой зрения Н.И. Бирюкова и В.М. Сергеева. По их мнению, интегрирующий механизм также «встроен» в политическую культуру. Политическая культура здесь понимается также преимущественно в когнитивном плане как «совокупность базисных знаний о социальной жизни, которые разделяются достаточно большой частью общества и предопределяют понимание конкретных политических ситуаций и поведение в них» [1, с. 61]. Эти знания разделены Н.И. Бирюковым и В.М. Сергеевым на три основные группы: социальную онтологию, политические ценности и операциональный политический опыт. Они тесно связаны между собой, хотя и образуют три разные уровня интеграции.
Интеграция, осуществляемая на уровне социальной онтологии, по логике авторов, наиболее подходит для стабильных обществ, где и проявляется ее эффективность. Социальная онтология – система категорий, которая задает базисные представления о структуре и свойствах социальной реальности, типологизирует социальные ситуации. Онтологические категории используются для того, чтобы идентифицировать («называть») эти ситуации. Знание этого рода, как правило, является неосознанным, организовано в чрезвычайно общие концептуальные схемы, которые не могут быть подтверждены сомнению или опровергнуты опытом, так как сами представляют собой способы интерпретации опыта, и поэтому работает эффективно.
В процессе модернизации необходимость постоянных структурных изменений разрушает способность социальной онтологии выступать в качестве интегрирующего фактора. Внутри политической культуры происходит структурная трансформация, и функцию интеграции берет на себя система ценностей – особые конструкты, непосредственно связанные с социальной онтологией. «Если онтология дает возможность описывать ситуации, типологизировать их, то ценности позволяют распределять ситуации по шкале “приемлемости”» [1, с. 61]. Главное интегративное преимущество системы ценностей для дифференцирующегося общества состоит в том, что на когнитивном уровне она поддерживает достаточно дифференцированную, но в целом единую (целостную) картину мира; на уровне прагматическом – способна интегрировать действия людей с принципиально различным, даже несовместимым операциональным опытом. В трансформирующемся обществе приверженность ценностям становится важнейшим инструментом социальной и культурной идентификации.
В обществе, где невозможна интеграция в рамках социальной онтологии и на уровне ценностей, она может быть осуществима на основе операционального опыта – наиболее вариативного элемента политической культуры. Он представляет собой «совокупность приемов, используемых для разрешения типичных проблем, – набор стереотипных сценариев поведения для стандартных ситуаций» [там же]. Интеграция происходит, по логике рассуждений Н.И. Бирюкова и В.М. Сергеева, благодаря институционализации операционального опыта, через процесс его иерархизации и достижения консенсуса относительно придания особого статуса некоторым видам политического поведения и некоторым политическим процедурам. «На практике это означает учреждение (или отбор) политических институтов, процедуры формирования и функционирования которых, собственно, и становятся предметом ценностного консенсуса, обеспечивающего интеграцию сообщества» [там же, с. 71].
Данная модель интеграции богаче предыдущей по содержанию: в ней яснее показаны разнородные компоненты политической культуры, их взаимосвязь, возможности и механизмы интеграции на их основе как в стабильном обществе, так и трансформирующемся. Авторы признают недостаточность интеграции на когнитивной (идеологической) основе. В их модели ценностный компонент фактически выступает посредником между идеологическим уровнем интеграции и практическим опытом, являющимся особым источником интеграции. При этом остается открытым вопрос: как интегрировать общество на практическом уровне? Возможно ли управлять интегративными процессами?
Не менее интересна позиция Ю.С. Пивоварова, который представляет политическую культуру в качестве «политической традиции». В своей работе «Русская политическая традиция и современность» автор отмечает, что в определенном отношении его подход близок к тому, который в рамках концепции «political culture» реализовал Г. Алмонд [5, с. 9]. Применяя свой подход к российской действительности, он говорит, прежде всего, о «русской политической традиции», под которой понимает формы и способы организации политической жизни, появившиеся и устойчиво сохраняющиеся в социальном времени [там же, с. 8]. Кроме того, «политическая традиция» также включает в себя и осмысление всего этого, то есть затрагивается и когнитивный аспект. В трактовке Ю.С. Пивоварова «традиция» – это то, что исторически складывается в определенном социальном времени и «скрывается в различных обличиях, мимикрирует, но продолжает – с разной степенью интенсивности – воздействовать на сегодняшнюю ситуацию (даже во многом определять ее)» [там же]. Традиция передается от поколения к поколению, это своего рода «коллективная память», обеспечивающая преемственность и т. п.
По мнению автора, преимущество подобного подхода заключается в том, что возможности интеграции и способы консолидации общества заложены именно в традиционной части культуры (прошедших отбор временем компонентах), которая на предсознательном уровне определяет способы и формы организации общества, способы поведения, возможности нормативного регулирования и т. д. Именно традиция предоставляет обществу алгоритм, тот самый фундамент, который необходим для урегулирования социальных противоречий и стабильного общественного развития. «Сам предмет исследования дает нам некоторые примеры, образцы и формулы» [5, с. 6], «предлагает обществу позиции, которые могли бы стать исходными» [там же, с. 255]. Ю.С. Пивоваров выделяет совокупный социально-политический опыт («старые источники бытийственной энергии»), то есть апробированные и прошедшие испытание временем образцы социально-политической жизнедеятельности, в качестве интегративного потенциала, благодаря которому возможно достичь общественной стабилизации. Это осуществимо через восприятие прошлого отечества в качестве «нормативного». Следует именно «в рамках этой нормативности поискать те самые ресурсы и возможности, пути и методы для... сбережения... цивилизации» [там же, с. 6]. Традицию необходимо использовать, «с ней надо работать», то есть управлять интегративными процессами. Многие традиции могут быть завуалированы, скрыты, но продолжают действовать, на пред- или даже бессознательном уровне определяя способы общественной организации и поведение субъектов. Игнорировать их нельзя во избежание конфликтов инноваций с социокультурным опытом общества. Для Ю.С. Пивоварова интеграция на основе традиции – это интеграция не только политической жизни, но и всего общества в целом.
Достоинство данной позиции – в подчеркивании роли и значения деятельностного компонента политической культуры, в ориентации на ее практическое использование в управлении. Вместе с тем в ней несколько недооценивается роль рациональности, когнитивного компонента политической культуры. Все ее составляющие включаются в состав совокупного политического опыта. Отсутствует дифференциация на поведенческие и когнитивные компоненты, рациональное и иррациональное. Остается неясным и соотношение инновационного и традиционного.
Общим для всех рассмотренных нами позиций является стремление объяснить механизм действия интегрирующей функции по- литической культуры. При этом авторы отдают приоритет различным ее составляющим: К.Ф. Завершинский – когнитивному компоненту, Ю.С. Пивоваров – деятельностному (традиционному). Лишь Н.И. Бирюков и В.М. Сергеев подходят к тому, чтобы выделять различные по своей природе уровни интеграции.
В предлагаемом нами варианте описания интегративного потенциала политической культуры мы исходим из того, что культура, функционирующая в обществе, может пониматься в трех аспектах: 1) как некий тип рациональности, то есть ценностно-целевая обусловленность деятельности и способ упорядочения социальной реальности; 2) как совокупный систематизированный социально-политический опыт; 3) как определенная форма идентичности – тождественности (самоотноше-ния) индивида с какой-либо группой, общностью. Именно эти три аспекта мы и будем рассматривать в качестве компонентов политической культуры, которые в нашей схеме являются особыми уровнями интеграции политической жизни.
Когнитивную составляющую культуры мы будем описывать с помощью понятия рациональности. Исходя из модели рациональности М. Вебера, культурную рациональность в нашем случае можно также разделить на две составляющие – целевую и ценностную рациональности как специфические мотивы и приоритеты политической деятельности. В целом понятие «рациональность» включает в себя все те смыслы, что были вложены авторами описанных концепций в когнитивную составляющую культуры. Его использование не только переводит наш анализ на язык философии, но и подчеркивает, что осознание политического порядка может строиться как на идеологической рефлексии целей и средств деятельности (задается философско-политической мыслью и связанными с ней программными документами), так и на особой культурно-символической логике (задается СМИ, религиозными доктринами, направлениями культуры).
Следующий уровень интеграции связан с действием совокупного социально-политического опыта как стандартизированного набора процедур, поведенческих паттернов (ро- лей) и традиций поведения в сфере политики. Потенциал операционального опыта может либо препятствовать общественному развитию, либо стать фундаментом социальной модернизации, – в зависимости от того, в какое институциональное русло он направляется, в каких организационных формах представлен в политической жизни. Управляя процессом политической институционализации, согласуя его с традиционными практиками повседневности, мы можем усилить интегративные тенденции в политической жизни общества, повысить эффективность проводимой политики реформ, минимизировать деструктивную сторону социальных конфликтов. В этом случае политический институт, основанный на традиции, становится фактором формирования ценностного консенсуса. Существенно то, что ценностный консенсус реализуется на уровне как социально-политических общностей, так и отдельных граждан, обеспечивая взаимосвязи макро- и микроуровней интеграции.
Еще один – низший, но наиболее фундаментальный по глубине и прочности, – уровень интеграции связан с проявлением политико-культурной идентичности, действием адекватных политическому порядку индивидуальных ролей и статусов. При этом са-моотождествление отдельных граждан с политическими структурами, процедурами, общностями может проявляться как в сознании, так и в автоматизме политического поведения, стихийных массовидных реакциях. Такое самоотождествление может возникать на индивидуальном уровне и как результат идеологически заданной институтами доктрины, и как результат символической программы, вложенной СМИ, и как проявление стихийно сформированного массового опыта. Политико-культурная идентичность обладает потенциалом объединения различных политических общностей: задавая привязку действия к единому образцу, она наполняет его социально значимым смыслом и тем самым легитимирует. Наличие в механизме интегрирующего действия политической культуры разных уровней указывает на многомерность, различные масштаб и глубину раскрытия в политической жизни ее интегративного потенциала.