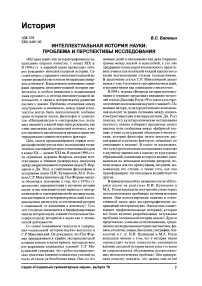Интеллектуальная история науки: проблема и перспективы исследования
Бесплатный доступ
В статье проанализированы результаты исследования теоретических оснований истории отечественной науки в конце XX - начале XXI века. Раскрывается предмет интеллектуальной истории науки, как человеческой деятельности в конкретных социальных условиях. Выявляется культурный механизма социального взаимодействия в науке.
Короткий адрес: https://sciup.org/147150581
IDR: 147150581 | УДК: 378
Текст научной статьи Интеллектуальная история науки: проблема и перспективы исследования
«История идей» как историографическое направление широко известно, с конца XIX в. В 1990-е гг. в мировой науке происходит «второе рождение» интеллектуальной истории. Сегодня вопрос о предмете «интеллектуальной истории» решается уже в новом интердисциплинарном контексте1. Классическое понимание специфики предмета интеллектуальной истории заключалось в особом внимании к выдающимся умам прошлого, к итогам интеллектуальной деятельности, а также к историческому развитию научного знания. Проблема отношения между «внутренним» и «внешним», между идеей и контекстом всегда была дискуссионной, особенно среди историков науки, философов и социологов. «Интерналисты» и «экстерналисты», пытались выяснить в какой мере идеи рождались как ответ мыслителя на социальный контекст, и какое значение в мыслительном процессе имеет ин-териоризация социокультурного фактора.
Цель статьи проанализировать первые историографические результаты исследования теоретических оснований истории отечественной науки в конце XX — начале XXI вв. В начале 1990-х гг. на страницах журнала Вопросы истории естествознания и техники развернулась дискуссия между американскими историками науки П. Форманом и Дж. Роуз, и советскими философами и историками науки Н.И. Кузнецовой, М.А. Розовым, С.Р. Микулинским и др. Пол Форман пытался обосновать положение о том, что с 1970-х гг. происходит переориентация в изучении истории науки, и она описывается как переход от «интер-налистской» к «экстерналистской» истории науки, или как переход от истории научных идей к истории научных институтов, от когнитивной истории к социальной, от концепции к контексту2. Суть этого подхода заключается в переформировании смысла истории науки, ставшего возможным благодаря подходу историков к науке как к человеческой деятельности.
Со своим пониманием сущности и содержания «социальной истории науки» выступил и С.Р. Микулинский. Он доказывал, что Пол Форман придерживается крайне экстерналистской позиции и видит в науке прямое, непосредственное выражение социальных условий3. С.Р. Микулинский утверждал, что грубая экстерналист-ская трактовка влияния социальных условий на науку не такая уж безобидная вещь. Она, по его мнению, ведёт к смазыванию или даже стиранию границ между наукой и идеологией, а это уже предрешает конец науки и возможность представить ученых как носителей чуждой идеологии со всеми вытекающими отсюда последствиями. В заключение статьи С.Р. Микулинский делает вывод о том, что нужна и «история научных идей, и история науки как социального института».
В 1994 г. журнал «Вопросы истории естествознания и техники» представил вниманию читателей статью Джозефа Роуза «Что такое культурологические исследования научного знания?». По мнению автора, культурологические исследования выходят за рамки полемики между социал-конструктивистами и интерналистами. Дж. Роуз показал, что культурологические исследования научного знания избирают предметом своего анализа пути сообщения между «фабрикой знания» и теми культурными обычаями и институтами, которые философы науки зачастую рассматривали в качестве факторов, «внешних» по отношению к знанию4. В статье он доказывает, что культурологические исследования подходят к научному знанию как к одному из культурных образований, понимание которого должно основываться на детальном изучении ресурсов, используемых для его артикуляции, ситуаций, вызывающих его отклик, а также того, как оно трансформирует эти ситуации и воздействует на другие.
В примечательной по названию статье «Историки науки на распутье» Н.И. Кузнецова и М.А. Розов высказали свое мнение о некоторых методологических проблемах изучения истории науки. Они констатировали наличие в отечественной науке двух историографических направлений «истории науки». Одно из них олицетворяют профессиональные историки, которые все более активно разрабатывают актуальные проблемы «социальной истории науки»5. Другое представлено учеными-естественниками, традиционно исследующими историю математики, физики, геологии, химии, биологии, географии, психологии и т. д6. Н.И. Кузнецова и М.А. Розов высказали мнение о том, что в истории науки «происходит натиск социологии, усиливается влияние западной истории науки и все это вовсе не сопровождается обсуждением соответствующих методологических проблем». Они предприняли попытку доказать, что далеко еще не всё исчерпано в когнитивной истории и что для объединения с общегражданскими историками существует иная, чем социальная история науки, основа. Для этого, по их мнению, необходимо выйти за рамки истории отдельных дисциплин, формировать и развивать новые программы систематизации знаний, учитывать внутреннее единство мировой науки. В целом можно согласиться с тезисом этих авторов о том, что историю науки следует отличать от гражданской истории. Однако вряд ли правильно утверждать, что натиск социологии может привести к «истории науки без науки»7. В данном случае преувеличена роль подхода, в центре которого находится когнитивная история науки. Можно также признать, что существование разных историографических традиций в естественных науках и гуманитарных исследованиях привело к формированию не одинаковых теоретических оснований в изучении научного знания. При этом следует учитывать, что в советскую эпоху именно гуманитарные науки испытывали мощный идеологический диктат, а проблема их восприимчивости и сопротивления этому давлению была поставлена только после 1991 г.
Более диалектичной для того времени представляется концепция философа С .А. Лебедева. Раскрывая проблему влияния социокультурных факторов, и прежде всего практических потребностей общества (социальный заказ) на развитие научного знания, автор доказывает, что это влияние является опосредованным прежде всего теоретическими основаниями науки8. Действительно, никакая практическая потребность не может удовлетворяться наукой, если последняя не имеет средств зафиксировать ее в своих философских основаниях, а впоследствии сформулировать на собственном теоретическом языке. Например, известно, что экономические потребности общества могут способствовать развитию науки больше, чем десяток научно-исследовательских институтов, но это может произойти только в случае, если экономические потребности будут осознаны и зафиксированы в соответствующих теоретических и ценностных основаниях науки.
Исследователи, анализируя факторы роста научного знания, показали не только известную самостоятельность научного познания, раскрыли внутреннюю логику развития научной мысли, но и отметили взаимодействие этих процессов с внешними, социокультурными факторами. Для понимания того, почему развитие науки шло так, а не иначе, необходимо логический и конк-ретно-исторческий анализ развития научного знания сочетать с изучением социокультурных факторов. Если же задачей является изучение деятельности конкретных научных учреждений, то в этом случае добавляется и социально-пси хологический аспект (теоретическое сознание, эмоционально-чувственные установки, ценностные ориентации). Поэтому в корне неправильно отвлекаться, как это делают и эктерналисты и интерналисты, от конкретных личностных характеристик субъекта научного познания и его культурно-исторической природы. Именно личность интегрирует внешние и внутренние ценностные основания науки. Иными словами представления о ценности научной деятельности, как специфическом виде творчества, о том, к чему следует стремиться и чего следует избегать в науке. Эти представления историчны и коррелируются с общей системой ценностей общества определенного периода развития.
Философ Е.А. Мамчур (физик по базовому образованию) в книге «Проблемы социокультурной детерминации научного знания» проанализировала процесс развития научно-теоретического знания и выделила закономерности его эволюции, осуществила их реконструкцию с учетом взаимозависимости когнитивных и социокультурных факторов9. Она сформулировала принцип «максимального наследования» содержания научного знания, обосновала положение о синхронизации как механизме взаимодействия науки и социокультурного контекста. Авторы сборника «Научный прогресс: когнитивные и социокультурные аспекты»10 фактически первыми в отечественной литературе, посвященной философии науки, применили междисциплинарный подход к развитию научного знания. И.А. Бескова, Е.Н. Князева, И.П. Меркулов. А.В. Юревич раскрыли нелинейный характер научного прогресса, проанализировали механизм взаимодействия теоретического знания с другими мировоззренческими структурами и формами духовной культуры (идеология, мораль).
Новый познавательный «поворот» в пространстве интеллектуальной истории начинается с середины 1990-х гг. В 1994 г. было создано Международное общество по интеллектуальной истории (ISIH). Проблемы гносеологии и методологии исторического исследования оказались в центре внимания профессиональных историков объединившихся вокруг журнала «Одиссей» (ре-д.А.Я. Гуревич). В 1996 г. журнал опубликовал статьи Г.И. Зверевой «Реальность и исторический нарратив: проблемы саморефлексии новой интеллектуальной истории» и Л.П. Репиной «Вызов постмодернизма и перспективы новой культурной и интеллектуальной истории». Пожалуй, впервые с такой тщательностью российские историки не только проанализировали зарубежную и отечественную историографическую ситуацию, но и охарактеризовали ее как постмодернистскую11. Авторы констатировали глубокие изменения, произошедшие в исследовательской сфере
Интеллектуальная история науки:
В.С. Балакин проблема и перспективы исследования интеллектуальной истории в XX столетие. При этом возрождение интеллектуальной истории оказалось связанным с «лингвистическим поворотом», смысл которого в ряде стран на «повышенных тонах» обсуждался и историками. Г.И. Зверева подробно проанализировала особый подход, проблемное поле, которое выстраивала «новая интеллектуальная история». Суть подхода заключалась в преимущественном внимании историков к историческому нарративу, то есть к языку, структуре, содержанию текста, создаваемого исследователем в процессе прочтения исторических свидетельств12.
Наконец, в 1999 г. вышел первый том альманаха интеллектуальной истории «Диалог со временем» (ред. Л.П. Репина и В.И. Уколова). Л.П. Репина в статье «Что такое интеллектуальная история?» обосновала необходимость переопределения методологических и содержательнопредметных оснований интеллектуальной истории13. Формируется расширительная трактовка понятия «интеллектуальная история», включающая историю и как аспект человеческой деятельности и как особый подход к прошлому. Л.П. Репина обосновала положение о том, что в современных условиях исходной предпосылкой интеллектуальной истории является осознание неразрывной связи между историей самих идей и идейных комплексов, с одной стороны, и условий и форм интеллектуальной деятельности, с другой14. Иными словами принципиальным становится учет взаимодействия, которое существует между движением идей и их конкретной исторической «средой обитания», теми социальными, политическими, религиозными, культурными контекстами, в которых идеи порождаются, распространяются и модифицируются. Такая установка является междисциплинарной и интегральной.
Сегодня между автономно развивающимися составляющими интеллектуальной истории (философски ориентированная история идей, история естествознания и техники, история политической, правовой, экономической и исторической мысли) складываются довольно сложные отношения. Внутренняя координация между этими направлениями пока слаба, к тому же расширяя перспективы исторической реконструкции прошлого науки, сторонники «всеобъемлющей» интеллектуальной истории разрушают дисциплинарные границы академических наук.
Научная деятельность как вид творчества может рассматриваться в качестве интеллектуальной культуры. Научные работники, составляя особую социальную общность, являются субъектом интеллектуальной культуры. Учёные выступают как носители культуры, не только в смысле хранителей традиций, исторической памяти, но и как творцы идеалов, смыслов, программ общения и поведения. Из работ посвященных изучению положения интеллектуальной элиты в социальных науках, культурном производстве следует выделить монографию «Социальные науки в постсоветской России» (ред. Г.С. Батыгин, Л.А. Козлова, Э.М. Свидерски). Социальные науки Г.С. Батыгин интерпретировал как текстовую деятельность, осуществляемую в определенной социальной среде16. Автор раздела также предпринял удачную попытку «проследить историческую трансмиссию дискурсивных образцов и возникновение легитимационных кризисов в системе социальных представлений».
Как уже отмечалось, изучение социокультурных аспектов истории науки способствует выявлению новых идеалов ролевого поведения учёных15. Поэтому социокультурный подход может, использоваться как метод интеллектуальной истории науки. Он позволяет раскрыть как человеческий аспект истории, так и показать влияние на научную деятельность культурно-исторической среды, институциональных факторов. Социокультурный подход также способствует созданию более объективной картины мотивов деятельности личности в исторически конкретных обстоятельствах. В этом контексте интеллектуальная история науки рассматривает культурные факторы регуляции научной деятельности как самостоятельные и особым образом объясняющие содержание и структуру духовного производства. Задача выявления культурного механизма социального взаимодействия в науке, понимания социального контекста интеллектуальной деятельности как культурно-исторической ситуации ставит проблемы, которые требуют дальнейшего исследования.
Список литературы Интеллектуальная история науки: проблема и перспективы исследования
- Репина Л.П. Интеллектуальная история на рубеже XX-XXI веков/Л.И. Репина//Новая и новейшая история. -2006. -№ 1. -С. 12.
- Форман Пол. К чему должна стремиться история науки?/Пол Форман//Вопросы истории естествознания и техники (ВИЕТ).-1990. -№ 1. -С. 4-5; 8-9.
- Микулинский С.Р. По поводу статьи П. Формана/С.Р. Микулинский//ВИЕТ. -1990. -№ 2. -С. 85-86.
- Роуз Дж. Что такое культурологическое ис-следование научного знания?/Дж. Роуз//ВИЕТ. -1994. -№4. -С. 24-25.
- Кузнецова Н.И. История науки на распутье/Н.И. Кузнецова, М.А. Розов.//ВИЕТ. -1996. -№1. -С. 3-10.
- Лебедев С.А. Философские основания и эвристические возможности интерналистского и экстерналистского объяснения развития научного знания/С.А. Лебедев//Вестник МГУ, сер.7. Философия. -1991. -№ 3. -С. 3.
- Мамчур Е.А. Проблемы социокультурной детерминации научного знания/Е.А. Мамчур. -М.: Наука, 1987. -С. 3-10.
- Научный прогресс: когнитивный и социокультурный аспекты. -М.: Изд-во института философии РАН, 1993. -197 с.
- Репина Л.П. Вызов постмодернизма и перспективы новой культурной и интеллектуальной истории/Л.П. Репина//Одиссей. Человек в истории. 1996. -М.: Coda, 1996. -С. 25. 12.
- Зверева Г.И. Реальность и исторический нарратив: проблемы саморефлексии новой интеллектуальной истории/Г.И. Зверева//Одиссей. Человек в истории. 1996. -М.: Coda, 1996. -С. 15.
- Репина Л.П. Что такое интеллектуальная история?/Л.П. Репина//Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории/под ред. Л.П. Репиной и В.И. Уколовой. -M.: ИВИ РАН, -1999. -С. 5.
- Балакин B.C. Специфика социокультурного развития советской науки в 1950-е -1970-е гг./B.C. Балакин//Вестник ЮУрГУ. 2007. № 24 (96). Серия «Социально-гуманитарные науки». Выпуск. 9. С. 7-13.
- Батыгин Г.С. «Социальные ученые» в условиях кризиса: структурные изменения в дисциплинарной организации и тематическом репертуаре социальных наук/Г.С. Батыгин//Социальные науки в постсоветской России. -M.: Академический проект, 2005.-С. 6.
- Развитие наук о земле в СССР. -М: Мысль, 1967. -715 с.
- Ярошевский М.Г. История психологии М.Г. Ярошевский. -М.: Мысль, 1985. -575 с.
- Ахундов М.Д. Философия и физика в СССР/М.Д. Ахундов, Л.Б. Баженов. М.: Знание, 1989. 63 с
- История естествознания в России. В 3-х т. -М.: Изд-во Академии наук СССР, 1957-1962. Т. 3. 1962. 603 с;
- Исследования по истории органической химии. М: Наука, 1980. -279 с.
- Историко-математические исследования. Вып. 35. -СПб.: Наука, 1994. -320 с;