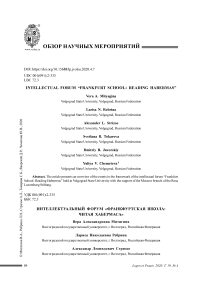Интеллектуальный форум "Франкфуртская школа: читая Хабермаса"
Автор: Митягина Вера Александровна, Ребрина Лариса Николаевна, Стризое Александр Леонидович, Токарева Светлана Борисовна, Яворский Дмитрий Ромуальдович, Чеметева Юлия Владимировна
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Обзор научных мероприятий
Статья в выпуске: 4 т.19, 2020 года.
Бесплатный доступ
Представлен обзор мероприятий прошедшего в Волгоградском государственном университете при поддержке Московского филиала Фонда Розы Люксембург интеллектуального форума «Франкфуртская школа: читая Хабермаса».
Короткий адрес: https://sciup.org/149130492
IDR: 149130492 | УДК: 001(091):2-335 | DOI: 10.15688/lp.jvolsu.2020.4.7
Текст обзорной статьи Интеллектуальный форум "Франкфуртская школа: читая Хабермаса"
DOI:
11–12 ноября 2020 г. в Волгоградском государственном университете при поддержке Московского филиала Фонда Розы Люксембург состоялся интеллектуальный форум «Франкфуртская школа: читая Хабермаса». Программа форума включала проведение ри-динг-групп по работам Юргена Хабермаса «Вовлечение Другого. Очерки политической теории» и «Теория коммуникативного действия», круглый стол по статье «Пандемия дает Германии и Европе шанс на объединение», круглый стол на тему «Этика ответственности Ю. Хабермаса: основные интерпретации».
Ридинг-группа по работе Ю. Хабермаса «Вовлечение Другого.
Очерки политической теории»
В рамках ридинг-группы ее участниками – философами, социологами, политологами – методом «медленного чтения» были прочитаны и обсуждены три фрагмента книги Ю. Хабермаса [Хабермас 2001а], посвященные коммуникативной этике и генеалогии когнитивного содержания морали; роли и судьбе национальных государств в истории Европы; соотношению понятий (и феноменов) правового государства и демократии. В ходе обсуждения выделенных в качестве неясных или дискутабельных фрагментов текста решались две основные задачи: поиск и прояснение «темных мест» и критический анализ допущений и аргументов автора.
Дискуссию модерировали доктор философских наук, заведующий кафедрой философии ВолГУ С.Б. Токарева, доктор философских наук, профессор кафедры философии, со- циологии и психологии ВолгГТУ Е.В. Карча-гин, доктор философских наук, профессор кафедры философии ВолГУ Д.Р. Яворский.
В выбранном фрагменте первой главы «Генеалогическое рассмотрение когнитивного содержания морали» [Хабермас 2001а, 107–118] вызвала интерес аргументация положения о невозможности морально-теоретического обоснования моральной позиции, а также вопрос о том, на чем основаны надежды на возможность коммуникации с целью взаимопонимания, а не победы или компромисса. Читатели отметили, что автор не доказывает, а констатирует утрату общезначимых оснований морального суждения в ситуации современного мультикультурного общества. По поводу надежды на возможность коммуникации, нацеленной на взаимопонимание, позиции участников дискуссии разошлись. Одни обращали внимание на то, что высокая степень риска глобального конфронтационного взаимодействия вынуждает участников искать взаимопонимания, что, однако, не исключает конфликтного взаимодействия, нацеленного на победу или компромисс в конфликтах местного или регионального масштаба.
Другие участники полагали, что Ю. Хабермас склонен к идеализации человека, но эта идеализация объясняется временем написания работы, когда, на волне разрядки напряженности и видимого примирения глобальных соперников, действительно казалось, что участники глобальных политических конфликтов склонны искать взаимопонимания. При этом отмечалось, что современная эпоха уже не дает оснований для надежды на поиск взаимопонимания участниками коммуникации.
Сторонники третьей позиции не согласились с тезисом об идеализации Ю. Хабермасом политического диалога, но отметили, что он сам ограничил свою философскую задачу поиском условий самой возможности взаимопонимания, оставив без ответа вопрос об условиях и вероятности такой возможности. Также в рамках первого заседания была высказана критика в адрес Ю. Хабермаса за недооценку глубины и сложности современных культурных и политических проблем. Отмечалась трагичность той ситуации, в которой человечество оказалось в начале третьего тысячелетия, отсутствие обозримого выхода из этой ситуации без конфронтационного взаимодействия. Также прозвучала критика в адрес интенции Ю. Хабермаса, выраженной в словосочетании «вовлечение другого»: в этом словосочетании заметны следы европоцентризма, проявляющегося в нежелании вовлекаться в мир другого, а напротив – вовлекать другого в свой мир.
На втором заседании обсуждались вопросы, почему Ю. Хабермас считает национальные государства неспособными справиться с современными глобальными проблемами путем межгосударственных соглашений, видит ли он какие-либо перспективы у национальных государств на современном историческом этапе, считает ли он, что у национального государства есть какая-либо функциональная альтернатива, какое место занимает «гражданская религия» в современных национальных государствах [Хабермас 2001а, 197–229]? Особый интерес вызвал вопрос о роли интеллектуалов в современной культуре в свете мысли Хабермаса о том, что именно интеллектуалы создали идеологический фундамент национального государства. Мнения участников по этому вопросу разделились, были высказаны три позиции. Согласно первой позиции, значение интеллектуалов в период формирования национальных государств подкреплялось их укорененностью в социальной структуре европейских наций, говоря марксистским языком, их классовой ангажированностью; современные же интеллектуалы стремятся занять роль посредников в социальных взаимодействиях, не ассоциируя себя с интересами определенной социальной группы; и именно такую роль – роль экспертов по коммуникации –предлага-ет им Ю. Хабермас. Согласно другой позиции, современные интеллектуалы выбрали для себя либо роль технократов, обслуживающих интересы властных элит, либо роль критиков системы социального контроля как таковой, поэтому их конструктивный потенциал понизился. Согласно третьей позиции, конструктивный потенциал интеллектуальной элиты не иссяк; более того, сам Ю. Хабермас своими текстами способствует конструированию нового типа сообщества, которое надстраивается над национальными государствами (космополитической элиты), именно поэтому вопрос о социальной базе и политической ангажированности Ю. Хабермаса вызывает затруднение (его социальная группа пока представляет собой проект).
На третьем заседании обсуждались тезисы об «амбивалентности права», о соотношении морали и права в современном правовом государстве, о соотношении частной и публичной автономии [Хабермас 2001а, 405– 415]. Участники обсуждения связали рассуждения Ю. Хабермаса о правовом государстве и демократическом режиме правления с концепцией коммуникативной этики, о которой речь шла на первом заседании. Были выявлены философско-этические основания политического активизма.
В заключение участники ридинг-группы высоко оценили формат работы, а также отметили то, что в ходе обсуждения было высказано много интересных и продуктивных идей, что свидетельствует об актуальности философии Ю. Хабермаса и высоком эвристическом потенциале его концептов.
Ридинг-группа по работе
«Теория коммуникативного действия Ю. Хабермаса»
В ходе ридинг-группы по работе Ю. Хабермаса «Теория коммуникативного действия» [Хабермас 2001б; 2002] дискуссию модерировали доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой теории и практики перевода ВолГУ В.А. Митягина и доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник кафедры германской и романской филологии ВолГУ Л.Н. Ребрина.
При обсуждении обусловленности основных тезисов теории коммуникативного действия предшествующими выводами и наблюдениями Ю. Хабермаса относительно трансформации публичной сферы, касающимися «веймарского синдрома», «духовного разоружения», исчезновения культуры демократических переговоров, значимости и функций публичных пространств, участники отметили тесную взаимосвязь теоретической философской рефлексии над имевшими место в начале XX в. в Германии и ряде других стран политическими процессами и социальными трансформациями немецкого общества после Второй мировой войны. Внимание Хабермаса к проблематике языка и морали, к способам достижения взаимопонимания в процессе коммуникации и коммуникативным основам интеграции социальных субъектов было обусловлено его личным коммуникативным опытом. В концепции публичной сферы Хабермаса представлена идеально-типическая модель установления «морали равного уважения». Обращение к источниковой базе теории коммуникативного действия показало стремление Хабермаса учесть разные типы «познавательных интересов» (технический, эмансипаторный, практический) и примирить разные социологические традиции в своей теории за счет их модификации (это касается, например, типологии социального действия М. Вебера, понятия «элементарного действия» Т. Парсонса), а также интеграции интеракционизма и драматургической социологии Ирвинга Гоффмана.
Обращение к отдельным положениям марксизма и неомарксизма для переосмысления социологических парадигм было обусловлено потребностью в разработке новой теоретической модели, преодолевающей как патологию рационального действия (см. франкфуртцы первого поколения), так и приоритет инструментализма при осмыслении интерсубъективного (межличностного) взаимодействия.
Внимание участников привлекло одно из центральных понятий концепции Ю. Хабермаса – «жизненный мир». Отталкиваясь от понятия «Lebenswelt» Э. Гуссерля, Ю. Хабермас считал, что его структуры задаются знаниями и опытом, зафиксированными в куль- туре и языке, тогда как «система» гарантирует устойчивость социального взаимодействия, подчиняя посредством манипулирования мир смыслов и значений, а также формирующийся в межсубъектной повседневной коммуникации «жизненный мир». В связи с этим можно указать на особую функцию социального действия в теории Хабермаса – функцию «перезагрузки» отношений в обществе в случае сбоя. Интерпретируя структуры общения, категоризации как фактор регламентации любого действия субъекта, Хабермас вводит в научный оборот новое методологическое основание – коммуникативную рациональность, воплощаемую в идеальном конструкте «публичная сфера», в котором взаимодействуют / противостоят «система» и «жизненный мир». Коммуникативная рациональность основывается на стремлении обрести взаимопонимание в ходе коммуникации на базе выстраиваемой рамки-конвенции.
Участники дискуссии обратили внимание на связь между концепцией Ю. Хабермаса и публичным пространством Х. Арендт, а также на тот факт, что для Ю. Хабермаса не облигаторно соприсутствие акторов, поскольку публика может быть рассеяна (например, благодаря СМИ), а публичная сфера конституируется множеством неадминистрируемых, замкнутых подсфер.
Соотношение используемого Ю. Хабермасом понятия «сфера референций социального действия» и понятия М. Вебера «конвенциальные договоренности» проясняется с учетом пересечения аналитических схем Т. Парсонса и Ю. Хабермаса, обращавшихся к нормативным ориентациям и выделявших соответствующие сферы референций. При этом Хабермас противопоставляет процессуальное понимание рациональности когнитивно-инструментальному и, следуя методологии М. Вебера, представляет трансформации рациональности не только в нормативном и телеологическом действиях, но и в драматургическом и коммуникативном социальном действиях. Последние как раз и получают толкование в теоретической модели публичной сферы Хабермаса.
Манипулятивный характер современной публичной сферы аргументируется у Хабермаса следующим образом. Поскольку базовой характеристикой «жизненного мира» и ком- муникативного действия является перформа-тивность, с появлением прессы и публичных пространств с их «открытым диалогом и горизонтальным характером социальных связей» появляется опасность управления публичными пространствами, их подчинения рыночным и властным интересам. Влияние прессы на публичную сферу в этом случае может обернуться превращением публики в пассивного зрителя политического «представления», в потребителя решений власти, что имеет своим результатом формирование «манипулятивной» публичной сферы для легитимации существующего порядка.
Предметом особого рассмотрения участников дискуссии стали аргументы критиков теории коммуникативного действия: утверждение о том, что Хабермас не предложил теоретическую модель «постбуржуазной» публичной сферы и не учел в своей теории гетерогенность публичных сфер и существующие между ними противостояния (Н. Файзер); оценка буржуазной публичной сферы далеким от реальности идеалом, исключающим участие «зависимых» социальных групп в публичном диалоге, не учитывающим «производственную публичную сферу» (О. Негт и А. Клюге); оценка М. Фуко, полагавшего, что модель Хабермаса нежизнеспособна, поскольку поиск универсальной морали на базе консенсуса, наличие общего интереса у разных социальных групп – утопия. При этом развитие оригинальных идей Хабермаса позволяет говорить о публичности как о регулятивном механизме производства и интерпретации смыслов социального действия, а современные сетевые коммуникации, в том числе сетевые медиа, образуют сегодня нового агента публичного взаимодействия, контрпублику (в терминологии Н. Фрейзер).
В рамках работы ридинг-группы «Теория коммуникативного действия Ю. Хабермаса: современные социокультурные и политические контексты» был заслушан проблемный доклад аспиранта Ю. В. Чеметевой «Аспекты теории аргументации (на материале юридического дискурса)», представляющий интерпретацию позиции Ю. Хабермаса относительно логики аргументации, которую философ развивал в рамках своей теории коммуникативного действия.
В докладе было обозначено, что согласно позиции Хабермаса логика аргументации относится к внутренним отношениям между прагматическими единицами, или речевыми действиями, из которых выводятся аргументы, то есть представляет собой неформальную логику, оценивающую и анализирующую аргументы в том виде, в каком они используются в естественном языке.
Докладчик представил анализ и критику Ю. Хабермасом концепций Ст. Тулмина и В. Кляйна, что позволило более полно раскрыть позицию философа по данному вопросу.
Были подробно рассмотрены три взаимосвязанных аналитических аспекта аргументации, выделенных Хабермасом (процесс, процедура, продукт). В аспекте процесса Хабермас рассматривает аргументацию как рефлексивно развернутое продолжение другими средствами ориентированного на понимание действия. Речь идет о неправдоподобных условиях достаточно условной формы коммуникации. Участники процесса должны в общем предполагать, что структура их коммуникации исключает любое принуждение, кроме принуждения со стороны наилучшего аргумента. При этом единственным мотивом процесса аргументации является поиск истины. Рассуждая об аргументации как о процедуре, Хабермас полагает, что в данном аспекте речь идет об интеракции, регулируемой специальным образом. Дискурсивный процесс понимания в форме разделения труда между пропонентами и оппонентами нормируется тем, что участники тематизируют ставшие проблематичными притязания на значимость, при этом они освобождены от давления действий и опыта в гипотетической установке и проверяют с помощью оснований, является ли защищаемое пропонентом притязание правомерным. Рассматривая аргументацию как продукт, Хабермас говорит о направленности на создание основательных, убедительных аргументов, с помощью которых можно удовлетворить или отклонить притязания на значимость.
Анализируя такие понятия как «согласие универсальной аудитории», «достижение рационально мотивированного согласия», «дискурсивное подтверждение притязания на значи- мость», Хабермас приходит к заключению, что невозможно поддерживать разрыв между тремя аналитическими уровнями. Критикуя позицию Кляйна, Хабермас подтверждает, что попытка построить логику аргументации исходя исключительно из аспекта процесса влечет за собой игнорирование внутренней перспективы конструирования по образцу значимых связей. Таким образом, подтверждается тесная связь аналитических аспектов, выделенных Хабермасом в исследовании аргументирующей речи.
В докладе также рассматривалась структура аргумента, при рассуждении о которой Хабермас опирается на точку зрения Ст. Тулмина: аргумент состоит из проблематичного высказывания, по отношению к которому выдвигается притязание на значимость, и оснований, благодаря которым должно осуществиться это притязание. Особый интерес слушателей вызвали приведенные докладчиком примеры из юридического дискурса, в том числе из аналитических статей по юриспруденции, транслируемых на площадках медийного дискурса, с помощью которых были наглядно продемонстрированы структурные компоненты аргумента.
Поясняя понятие «идеальной речевой ситуации», докладчик отметил, что такая ситуация исключает систематическое искажение коммуникации. В идеальной ситуации реализуются, по Хабермасу, высокие принципы как условия достижения взаимопонимания и согласия: истинность, правдивость и правильность. Вместе с принципами формулируется и комплект правил: ни один говорящий не должен себе противоречить; каждый говорящий может утверждать только то, во что он сам верит; каждый дееспособный и одаренный речью субъект имеет право принимать участие в дискуссии.
С помощью понятий «согласие универсальной аудитории», «достижение рационально мотивированного согласия», «дискурсивное подтверждение притязания на значимость» в теории аргументации Хабермас характеризует аспекты аргументации: аспект процесса – с помощью намерения убедить универсальную аудиторию и добиться для высказываний всеобщего согласия; аспект процедуры – с помощью намерения завершить спор о гипо- тетических притязаниях на значимость рационально мотивированным согласием; аспект продукта – с помощью намерения обосновать или подтвердить определенное притязание на значимость с помощью аргументов.
В заключение состоявшегося обсуждения модераторы ридинг-группы «Теория коммуникативного действия Ю. Хабермаса» В.А. Митягина и Л.Н. Ребрина отметили высокую эвристичность идей и позиций Ю. Хабермаса для современной лингвистики, ее прототипический и моделирующий характер для исследований процессов коммуникации.
Обзор круглого стола, посвященного обсуждению статьи
Ю. Хабермаса «Пандемия дает Германии и Европе второй шанс на объединение»
Статья Ю. Хабермаса представляет собой одну из новых работ философа, увидевшую свет в октябре 2020 года [Habermas 2020; Хабермас 2020]. В ее обсуждении в рамках круглого стола приняли участие доктор философских наук, профессор кафедры социологии и социальных технологий ВолГУ А.Л. Стри-зое, доктор политических наук, профессор кафедры государственного управления и менеджмента ВИУ РАНХиГС И.Л. Морозов, кандидат философских наук, доцент, начальник кафедры философии Волгоградской Академии МВД РФ Е.А. Матвиенко, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории ВолГУ В.А. Горелкин, кандидат исторических наук, доцент кафедры сервиса и туризма ВолГУ Е.В. Стельник, кандидат философских наук, старший преподаватель кафедры международных отношений, политологии и регионове-дения ВолГУ В.В. Шевченко.
Открывая обсуждение, А.Л. Стризое отметил, что статья Ю. Хабермаса затрагивает проблемы различных уровней социально-гуманитарного анализа и, прежде всего, проблему социальной интеграции на наднациональном и национально-государственном уровнях. Автор статьи уделил значительное внимание влиянию миграционных процессов, пандемии и связанного с ней социально-экономического кризиса на общественное мне-
ОБЗОР НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ние и состояние общественных настроений. Констатируя незавершенность интеграционных процессов в Германии и Европе, Ю. Хабермас указывает на важность понимания различий в историческом опыте и готовности к общественно-политическому диалогу всех участников этих процессов. Философ обращается к проблеме исторической памяти, имеющей не только историко-методологический, но и практически-политический аспект, связанный с ренессансом «новых правых» в Германии и Европе. Обсуждаемые в статье вопросы актуальны и для России в контексте проблем внутрироссийской и постсоветской интеграции, роста консервативных настроений в обществе, ослабления социального иммунитета к неофашизму и радикальному национализму, а также к попыткам ревизии исторического прошлого.
Отвечая на вопрос, поставленный Ю. Хабермасом о влиянии пандемии на решение проблем европейской интеграции, участники обсуждения высказали различные точки зрения. В.А. Горелкин согласился с автором статьи в том, что «пандемия дает второй шанс Германии и Европе на объединение. Сейчас появилась редкая в истории возможность поставить текущие политические процессы на паузу, получить время для рефлексии и корректировки стратегических планов. Одновременно пандемия требует быстрых смелых действий, необходимости брать ответственность на себя, не обезличивая процесс принятия решений общеевропейскими институциями, ставить общие интересы выше национальных и личных (партийных) амбиций». Он отметил, что, связывая процесс европейского объединения с проблемой интеграции земель бывшей ГДР, Ю. Хабермас «пытается в упущенных при объединении Германии возможностях найти направления корректировки интеграционной политики Евросоюза».
Е.В. Стельник, напротив, видит в этой взаимосвязи упрощение проблемы интеграции: «Объединенная Европа – это просто уменьшенная модель Германии. В Германии проходят те же самые процессы, только в уменьшенном масштабе. Это допущение ставит под сомнение факт европейского разнообразия». Он полагает, что Юрген Хабермас исходит из оптимистического сценария, согласно которо- му у Германии и ЕС будет еще один шанс интеграции. «Вера в лучшее – хорошее качество, – отмечает Е.В. Стельник, – но исключение негативных сценариев ослабляет статью, поскольку желаемое тоже должно быть объектом критики».
Говоря о тенденциях, препятствующих европейской интеграции, В.В. Шевченко не согласился с высказанным в статье мнением о том, что основным ее противником и носителем евроскептицизма выступают правый популизм и национализм: «Эти течения претерпевают в настоящий момент серьезную эволюцию: традиционную ксенофобию, обращенную, как правило, против соседних народов, все активнее замещает неприязнь к мигрантам, их образу жизни и привычкам. Своеобразно формируется и новый национализм, который допускает появление не только ситуативных союзов правых партий различных европейских стран, но и формирование общеевропейского «правопопулистского интернационала». Таким образом ставится вопрос о возможности нового сценария интеграции.
Сходную мысль высказал и Е.А. Матвиенко, обративший внимание на то, что «евроскептицизм и призывы к более жесткой миграционной политике стали сегодня едва ли не общим местом в рассуждениях целого ряда европейских политиков и ведомых ими политических сил. Эти рассуждения находят живой отклик у части избирателей, в странах Вышеградской группы подобные подходы превращаются едва ли не в официальную позицию властей». Как отметил И.Л. Морозов, «пандемия поставила и обострила вопрос о необходимости усиления государственного регулирования социально-экономических процессов. Возник запрос на «сильное государство», ответ на который предложили правопопулистские силы». Завершая обсуждение темы, А.Л. Стризое указал, что шанс на углубление интеграции в период пандемии связан с запросом на единую и эффективную в масштабах Европы социально-экономическую, миграционную политику, а также санитарные, противоэпидемические меры.
Участники круглого стола согласились с мнением о том, что объединение Германии фактически осуществилось по сценарию поглощения ГДР. Живой отклик у участников обсуждения вызвала тема консервативного ренессанса в общественном мнении и успеха «новых правых», в том числе партии «Альтернатива для Германии». Е.А. Матвиенко связывает эти два вопроса, отмечая, что «есть доля истины в мнении Ю. Хабермаса о том, что более высокий уровень ее поддержки в восточных землях Германии связан с депривацией местного населения, вызванной более низким (по сравнению с западными) уровнем жизни, а также психологическими травмами, полученными в ходе фактического поглощения ГДР со стороны ФРГ в ходе их объединения». К числу других причин успеха «новых правых» он относит «глубинное стремление сохранить свою идентичность, защитить свой образ жизни» в условиях идущей вслед за глобализацией унификацией культуры, миграционного кризиса и вызова, который бросает европейским ценностям и правовому государству исламизм.
Сходное мнение высказал В.А. Горелкин, подчеркнувший, что «западная политическая система, обладая статусом победителя, моментально вытеснила восточногерманские политические институты и не дала возникнуть новым, вызвала маргинализацию политических настроений». Он обратил внимание на своеобразную ловушку, в которой оказалось массовое сознание населения Восточных земель: «В ситуации, когда постоянно осуждается «советское прошлое», когда существующая политическая система несправедлива и не может восприниматься восточными немцами в качестве достойной альтернативы, куда могут обратиться их взгляды? Где можно найти «достойные» примеры? Особенно в период, когда в общем медийном пространстве Германии закончилась основная дискуссия о «нацистском прошлом»? Ответ – в том самом прошлом. Ведь если «советский период» ГДР плохой, то и часть из того, что в этот период говорилось о нацизме, начинает ставиться под сомнение. И вместо преодоления тоталитарного прошлого получаем его ренессанс». И.Л. Морозов отметил, что «электоральный успех «Альтернативы для Германии» явился закономерным политическим результатом учета тенденций нашего времени. Эти тенденции теперь придется учитывать всем партиям ФРГ: социал-демократам и левым социалистам, христианским демократам и либералам».
В ходе дискуссии была высказана критика тезиса Ю. Хабермаса о об отсутствии в ГДР широкой и критической по духу общественной дискуссии о нацистском прошлом Германии, а также о 40-летнем «советском прошлом» ГДР как условиях распространения в Восточных землях идеологии «новых правых». Как отметил В.В. Шевченко, в ГДР не было субъекта, способного инициировать рефлексию такого рода и донести ее результаты до общества, в котором преобладали настроения радикального ревизионизма по отношению к идеологии и социальной практике прежнего периода. В.А. Горелкин высказал мнение о том, что «нельзя использовать уникальный для западногерманского общества опыт переосмысления нацизма в качестве универсального инструмента преодоления тоталитарного прошлого, и, тем более, буквально навязывать его жителям бывшей ГДР». По мнению А.Л. Стризое, тезис Ю. Хабермаса о культивировавшемся в ГДР «безучастном антифашизме» требует более глубокого осмысления: он указывает на формальный, поверхностный, декларативный характер борьбы с радикальным национализмом, расизмом и их идеологическими проявлениями в обществах «реального социализма».
Участники обсуждения согласились с мнением И.Л. Морозова: «Между Россией и Германией в историческом и экзистенциальном смыслах гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд. Обе страны исторически выступают как центры интеграции больших пространств, охватывающих Европу и Азию». Обсуждение статьи Ю. Хабермаса и затронутых в ней проблем вносит вклад в достижение большего взаимопонимания ученых и общественных деятелей двух стран.
Круглый стол
«Этика ответственности Ю. Хабермаса: основные интерпретации»
В работе круглого стола состоялось обсуждение оригинальной концепции этики дискурса Ю. Хабермаса, которая, наряду с теорией коммуникативного действия, представляет собой наиболее значимый вклад ученого в теоретическое осмысление взаимодействия «структур общественности» и разработку эф- фективных механизмов достижения взаимопонимания, согласия и солидарности в реальной коммуникации людей. К обсуждению были предложены вопросы об интегративной функции ответственности и определяющей роли аргументов в дискурсе; о приоритете справедливости над благом; о формальных принципах «аргументированного дискурса». В ходе обсуждения участники дискуссии отметили, что этика дискурса Хабермаса подчинена поиску оснований и условий человеческой солидарности. Рассматривая вопрос о противопоставлении Хабермасом универсальных норм повседневным интуициям повседневности, он дает ответ на важные вопросы о возможности установления универсального морального порядка в условиях мультикультурного сообщества. В этих условиях применения этики дискурса, не прибегающей к метафизическим обоснованиям моральных ценностей, устанавливаются такие правила коммуникации, которые гарантируют, что голос каждого члена общества будет услышан, а сила аргумента будет единственным определяющим фактором при принятии решений. В ходе дискуссии участники пришли к выводу о том, что этика дискурса, выдвигая требование к участникам коммуникации признать Другого как самого себя, гораздо более радикальна по сравнению с теорией компромиссов и в силу этой радикальности не свободна от утопичности.
Список литературы Интеллектуальный форум "Франкфуртская школа: читая Хабермаса"
- Хабермас 2001а - Хабермас Ю. Вовлечение Другого.Очерки политической теории: пер. с нем. СПб.: Наука, 2001.
- Хабермас 2001б - Хабермас Ю. Теория коммуникативного действия (краткое содержание) // Личность. Культура. Общество. 2001. Т. 3, № 4 (10). С. 207-221.
- Хабермас 2002 - Хабермас Ю. Теория коммуникативного действия. Предисловия к 1 и 3 изданиям // Личность. Культура. Общество. 2002. Т. 4, № 1-2 (11-12). С. 243-250.
- Хабермас 2020 - Хабермас Ю. Пандемия дает Германии и Европе второй шанс на объединение: пер. с нем. // Режим доступа: https://www.dekoder.org/ru/article/pandemiya-daet-germanii-i-evrope-vtoroy-shans-na-obedinenie-chast-2.
- Habermas 2020 - Habermas J. 30 Jahre danach: Die zweite Chance Merkels europapolitische Kehrtwende und der innerdeutsche Vereinigungsprozess // Режим доступа: https://www.blaetter.de/ausgabe/2020/september/30-jahre-danach-die-zweite-chance.