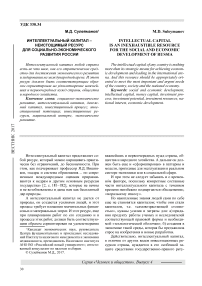Интеллектуальный капитал - неистощимый ресурс для социально-экономического развития России
Автор: Сулейманов Минкаил Джабраилович
Журнал: Вестник Российского нового университета. Серия: Человек и общество @vestnik-rosnou-human-and-society
Рубрика: Человеческий капитал: образование и управление
Статья в выпуске: 4, 2017 года.
Бесплатный доступ
Интеллектуальный капитал любой страны есть не что иное, как его стратегическое средство для достижения экономического развития и лидирования на международной арене. И этот ресурс должен быть соответствующим образом сориентирован на удовлетворение важнейших и первоочередных нужд страны, общества и народного хозяйства.
Социально-экономическое развитие, интеллектуальный капитал, денежный капитал, инвестиционный процесс, инвестиционный потенциал, инвестиционные ресурсы, национальный интерес, экономическое развитие
Короткий адрес: https://sciup.org/148161257
IDR: 148161257 | УДК: 330.34
Текст научной статьи Интеллектуальный капитал - неистощимый ресурс для социально-экономического развития России
важнейших и первоочередных нужд страны, общества и народного хозяйства. А дальше он должен быть еще и «сформатирован» в паттерны и модели, пригодные для эксплуатации в реальном секторе экономики или в социальной сфере.
И при этом не следует забывать и о времен-нóм факторе, поскольку конкретные составные части интеллектуального капитала с течением времени неизбежно подвергаются обесценению, «моральному износу».
Но накопленные знания людей сами по себе еще не становятся капиталом; чтобы они стали капиталом, т.е. «самовозрастающей стоимостью», нужны усилия и затраты для: а) придания продукту работы ученых и исследователей соответствующей правовой формы и необходимой «технологической оболочки»; б) создания в экономике такой среды, которая бы предъявляла спрос на изобретения и новые разработки.
Действительно, интеллектуальный капитал, в отличие от других видов инвестиционных ресурсов страны, нуждается в его особенной защите средствами государственно-правого регу- лирования. Без этого условия знания и умения людей остаются лишь их преходящим достоинством, с уходом или отъездом из страны людей – носителей этих знаний и умений – теряется для этой страны и возможность капитализации этого достояния.
И, самое главное, этот интеллектуальный капитал должен быть востребован, поскольку любая научная мысль, любое самое «прогрессивное» изобретение нуждается в технологических условиях, позволяющих придать им форму, удобную для потребителей, и в техникоэкономических обоснованиях, доказывающих возможность производить эти «формы» по ценам, доступным для потребителей.
В СССР весь этот процесс в формальном плане был вполне обустроен и обеспечен как в кадровом, так и в материально-техническом и финансовом отношении. Сейчас говорят, что он был недостаточно эффективен. Но с этим никак нельзя согласиться. Если взять самые сложные технические системы и устройства – «средства войны», то и в ракетно-ядерном оружии, и в обычных вооружениях СССР не уступал ни одной стране мира, а с США был достигнут в целом глобальный паритет, как по общей военной мощи, так и по способности поразить территорию противника.
Как напоминает нам генерал-лейтенант В.П. Стародубов, который из своих 47 лет службы в ВС более 20 лет имел дело непосредственно с учреждениями оборонной науки: «В советской науке было занято на треть больше ученых, чем в Соединенных Штатах. Причем, в отличие от США, в подавляющем большинстве советские ученые были подготовлены в собственной стране, США значительную часть ученых импортировали [3, c. 38].
Интересно также отметить и такой факт. В конце 1980-х гг. по заданию Президента США был подготовлен совершенно секретный доклад-исследование, в котором точно персонифицированы все сделанные в этой стране за последние 80 лет сколь-нибудь значимые исследования, открытия, разработки и т.д.
Результат Президента США неприятно удивил: оказалось, что 85% из этих работ выполнено выходцами из территорий Российской империи (включая Польшу и Финляндию) [2, с. 182].
А для нас проблема была в другом. Во-первых, этого паритета СССР добивался с крайним перенапряжением сил, поскольку в экономическом смысле СССР всё еще существенно отставал от США, и у США еще были такие мощные партнеры, как Великобритания и Фран- ция, которые брали часть бремени гонки вооружений «на свои плечи», и такие союзники, как Япония и Германия, достигшие близкого к США общего уровня промышленного развития, позволявшего им поддерживать взаимовыгодный широкий обмен высокотехнологичной продукцией. У СССР таких мощных партнеров и союзников не было, Чехословакия и ГДР могли кооперироваться с СССР только по ограниченному набору отраслей и производств.
Во-вторых, военно-промышленный комплекс СССР создавался из предприятий, изначально нацеленных только на производство вооружений и военной техники. Для работы по более широкому ассортименту продуктов и изделий этим предприятиям не выделялось ни средств, ни материалов. В итоге эти предприятия, целиком ориентированные для работы на оборону, полностью зависели от госзаказа, а государство, таким образом, теряло необходимую гибкость в распоряжении своими ограниченными ресурсами – оно было вынуждено заказывать и закупать продукцию этих предприятий, хотя в этом не было особой необходимости. Главное было – загрузить работой многотысячные трудовые коллективы этих предприятий.
А в США была поставлена – и реализована – программа снижения доли военного заказа у крупнейших поставщиков Пентагона до 20% и менее. В результате государство могло более придирчиво относиться к разработкам и проектам, предлагаемым частными компаниями, и закрывать не оправдавшие себя или излишне дорогостоящие программы, не опасаясь рисков самоликвидации этих компаний.
И, с другой стороны, сами эти компании, на 80% своей продукции зависимые от изменчивой конъюнктуры свободного рынка, стали еще более внимательно относиться к работе с военным заказом, понимая, что только при полном удовлетворении технических условий, предъявляемых заказчиками, они могут добиваться долговременного сотрудничества с ними. А наличие в их портфелях государственных заказов помогало им укреплять отношения с поставщиками и банками, а также позволяло им более уверенно планировать свои НИОКР и вложения в модернизацию производственных процессов.
В-третьих, в СССР государство жестко ограничивало применение изобретений и технологий, разработанных для военных целей, в гражданском производстве. Соответственно, предприятия не могли тиражировать эти разработки при производстве продукции для потребительского рынка, и, соответственно, лишались воз-
ВЕСТНИК 2017
ВЕСТНИК 2017
можности получать от этого дополнительные доходы. А государство, в свою очередь, лишалось потенциальных поступлений от налогообложения прибылей этих предприятий.
То же самое касалось и научно-исследовательских учреждений, работавших по оборонному заказу. У них не было ни свободы загружать себя темами гражданского профиля, ни возможности продавать «на сторону» или адаптировать результаты своих военных разработок для нужд гражданских производств.
И, наконец, поскольку у оборонных НИИ не было возможности зарабатывать на продаже своих исследований и разработок «посторонним клиентам», то у них и не было интереса каким-либо образом заботиться о защите своих прав на эти исследования и разработки.
Всё это привело к тому, что в СССР так и не сложился нормальный процесс формирования, накопления и оборота интеллектуального капитала так, как это было уже налажено в западных странах, с правильным распределением и взаи-моуравновешиванием интересов государства, НИИ и предприятий ВПК, и гражданского сектора экономики.
А отсюда, в СССР и не было возможности правильно строить и отслеживать – в разрезе не столько для ВПК и ВС, но в разрезе народного хозяйства в целом, – весь баланс затрат и результатов по формированию и использованию интеллектуального капитала страны.
Сейчас мы знаем, каковы были затраты, но мы не можем им противопоставить «эффекты» от этих затрат (хотя формально «эффективности» НИОКР в народном хозяйстве рассчитывались, но доверять этим данным нельзя), а отсюда, мы не можем ничего сказать о конечном балансе между этими величинами.
Но можно сказать о реальных потерях за период постсоветского развития России. Сотни тысяч ученых покинули и науку, и страну, из числа ученых высшего уровня до 50% покинули страну еще до начала 2000-х гг. А как подсчитал академик С. Глазьев, эмиграция 100 тыс. ученых эквивалентна экономическому ущербу в 80 млрд долл [2, c. 72].
Сейчас же объем финансирования российской науки в десятки раз меньше, чем в развитых странах, а затраты на НИОКР в расчете на душу населения более чем в 20 раз меньше соответствующего показателя США.
И как отмечается в докладе ЦРУ США, «в настоящее время научно-техническая сфера в России находится в критическом состоянии. Продолжает резко падать спрос экономики на научно-техническую продукцию и на научнотехнические достижения в области передовых технологий, стремительно снижается достигнутый ранее уровень фундаментальной науки. Наука (российская) практически деградирует [3, с. 39].
В постсоветском периоде основное внимание властей уделялось проблемам приватизации госсобственности («снять излишнее бремя с государства») и достижению бюджетного равновесия («свести концы с концами в денежных делах правительства»). Когда за бесценок уходили в частные руки огромные природные ресурсы и промышленные капиталы в ведущих отраслях экономики, то до интеллектуального капитала никому не было дела.
Так, ушли, в основном, «под крыло» иностранных собственников известные водочные бренды (водка «Московская», «Столичная»), бренды кондитерских изделий, шоколада и т.д., а ставший вмиг «бесхозным» российский рынок заполонили торговые марки и бренды крупнейших западных компаний.
Одновременно мы забыли и об именах наших соотечественников – имена с мировым потенциалом, которые в любой другой стране приносили бы многомиллионные прибыли: имена Федора Шаляпина, Галины Улановой, Льва Яшина. То, что только сейчас пытаются сделать с именем Валерия Харламова.
Мы не смогли запатентовать автомат Калашникова, легендарные МИГи, танки Т-34, суда на воздушной подушке и многое другое из военной техники, всё, что в других странах много тиражировалось и сейчас служит предметами коллекционирования.
Мы даже упустили имя Гагарина (аэропорт в Марселе носит имя летчика и писателя Сент-Экзюпери, который, при всем к нему уважении, с Юрием Гагариным не идет ни в какое сравнение) и бренд «спутник».
Теряет также свое прежнее влияние в мире и сам русский язык. И это несмотря на то, что сейчас в Европе стараниями Болгарии кириллица становится официальным алфавитом Евросоюза (чеканятся уже монеты и печатаются банкноты с евро, написанным русскими буквами).
А новые торговые марки и бренды, которыми сейчас «оснащается» продукция российских предприятий, уже с самого начала регистрируются и получают правовую защиту в других странах, но не в России: пиво, сигареты, водки, швейные и обувные изделия и т.д.
И, как очевидно, этот процесс никем и никак не контролируется и не регулируется. Напротив, существующие в этой сфере институции и ведомства делают, кажется, всё возможное, чтобы только затруднить процесс регистрации прав и патентов для российских заявителей.
Зато Генеральная прокуратура РФ проявляет особую бдительность в защите интересов прав иностранных правообладателей против своих же российских граждан и предприятий. Кстати, в соседнем Китае в таких случаях «обиженным» иностранным компаниям предлагают просто обращаться в китайские суды и нанимать для этого китайских адвокатов.
А с научными кадрами дело обстоит просто катастрофически. Так, по данным, которые огласил Президент РФ В. Путин на совместном заседании Совета Безопасности и Совета при Президенте РФ по науке и технике 20 марта 2002 года, «за последние десять лет из России… за рубеж уехали более 200 тысяч первоклассных ученых, а всего за этот же период из науки ушли около 800 тыс. человек» [3, с. 38].
При этом страну покидали в первую очередь те люди, которые были и остаются востребованными за рубежом, то есть квалифицированные, как правило, уже имеющие опубликованные научные работы специалисты разных отраслей наук и техники в возрасте 30–40 лет. Значительная доля среди них – математики и физики. Для России это означало потерю до 80% математиков и 50% физиков.
А всего же, по оценкам экспертов, в разного рода программах, выполняемых в интересах военного ведомства США, в российских организациях задействовано около 8 тысяч российских специалистов. Полученные результаты по контракту принадлежат Америке, Россия воспользоваться ими не может [3, с. 39].
Сейчас, в условиях глобализации и усиления конкурентной борьбы на мировом рынке, пришло, видимо, время обратить внимание на защиту прав и интересов России и на рынке интеллектуального капитала (интеллектуальной собственности). Но для этого надо вначале создать все необходимые условия для образования и обращения интеллектуального капитала внутри нашей страны. В частности, надо выделить и правильно организовать работу в этой сфере по следующим основным направлениям (как отдельным составным звеньям, или этапам, общего процесса оборота и накопления интеллектуального капитала).
-
1. Процесс формирования интеллектуального капитала.
-
2. Образование, отбор перспективных ученых и исследователей.
-
3. Организация и проведение фундаментальных исследований.
-
4. Организация и проведение НИОКР.
-
5. Закрепление прав на открытия и изобретения (патентование в своей стране и за рубежом).
-
6. Использование результатов научных исследований и НИОКР : в сфере обороны, в народном хозяйстве, в продажах за рубеж.
Кроме того, надо разработать и утвердить на государственном уровне перечень наиболее «звездных» имен русской истории, которые мы должны продвигать на мировом рынке – всеми возможными способами и средствами. Юрий Гагарин здесь будет на первом месте.
Далее следует разработать программу восстановления и продвижения на мировом рынке определенных товарных брендов для российской продукции (к примеру, московская водка, вологодское масло, костромской лен и т.д.).
И следует также подумать о восстановлении репутации русского языка как языка передовой науки и техники. Но – это дальняя перспектива, однако кое-что можно сделать сразу, и без особых затрат.
Первое – это установление обязательства для всех членов РАН, что для каждой своей публикации на иностранном языке они должны будут, за три–шесть месяцев до этого, опубликовать этот же текст на русском языке в одном из журналов РАН.
Возможно, для этих целей можно будет начать издавать специальные «Анналы…» – по отдельным научным дисциплинам. Такое же условие следует ввести и для кандидатов в члены РАН – на срок не менее 5 лет до подачи ими такого заявления.
Второе – установить обязательство, что каждая иностранная компания, реализующая свои товары или услуги на территории РФ, при регистрации своей «родной» торговой марки или бренда должна будет одновременно и регистрировать ту же марку или бренд в кириллическом написании. Будет ли она использовать это написание на своем продукте или нет, это – ее дело, но отдельная регистрация такого русскоязычного бренда (марки) должна быть обязательной.
И в заключение следует еще раз подчеркнуть, что результаты реформирования российской науки были заранее предсказаны всем сонмом зарубежных советников России. И не просто предсказаны – предписаны. Так, в книге эксперта Государственной думы В.И. Бабкина отмечается, что еще в 1994 г. ОЭСР был выпущен доклад, в котором прямо предписывалось «сократить раздутую, плохо адаптируемую систему, нахо-
ВЕСТНИК 2017
ВЕСТНИК 2017
дящуюся в состоянии стремительного ухудшения. В России существует чрезмерное изобилие квалифицированных ученых». И там же: «Советский Союз оставил России сомнительное наследие, имея в виду сектор науки и технологии. С одной стороны, – это лидирующие позиции в мире во многих областях фундаментальной науки, а с другой стороны, – отставание почти во всех областях промышленных инноваций» [1, с. 100–101].
Действительно, если такой разрыв есть, то надо что-то делать. Но, конечно, не подтягивать к науке промышленность – что сложно и небыстро, – а надо просто ликвидировать неоправданно «забежавшую вперед» науку.
И еще интересно, что авторы доклада ОЭСР умудрились как-то просмотреть использование научных достижений в ВПК России. А там оказался такой задел, что хватает и для нынешней модернизации российской армии.
Не «детали» главное. Главное – что есть заказ на ликвидацию научно-технического и промышленного потенциала России, и его приходится отрабатывать. И этот заказ был заложен в основу всех программ западной «помощи» России еще изначально. Как пишет В.П. Стародубов: «Энергичные действия младореформаторов всячески приветствовались (если не сказать – направлялись) зарубежными, в первую очередь американскими учеными и деятелями, многие из которых имели сомнительное отношение к экономике».
И с этим сейчас согласны и многие из непредвзято мыслящих ученых за рубежом. В част- ности, американский ученый-историк С. Коэн в своей книге «Провал крестового похода» пишет, что на Западе уже давно сложилось мнение, что если дело касается России, то «любая реформа должна носить разрушительный характер, и масштаб разрушения должен быть исторически беспрецедентным. Всё идет на свалку, включая экономические и большинство политических и социальных институтов и заканчивая физической структурой производства, капиталов и технологии» [3, с. 31].
И по их «благим советам» в России уже многое «перестроено», и многое «отреформирова-но». Но – не всё. И сейчас, когда нас тот же Запад «наградил» санкциями, самое время начать действовать уже по своим планам и в интересах самой России.
Список литературы Интеллектуальный капитал - неистощимый ресурс для социально-экономического развития России
- Бабкин В.П. От ликвидации науки -до ликвидации страны? -М., 2014.
- Всероссийская научно-практическая конференция «Экономическая безопасность: вопросы реализации государственной стратегии», 17-18 декабря 1997 г.: сборник материалов. -М., 1998.
- Стародубов В.П. Россия -США. Глобальная зависимость. -М., 2004.
- URL: http://www.re.hse.ru/-сайт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ Высшей школы экономики.
- URL: http://rosnou.ru/-сайт Российского нового университета.