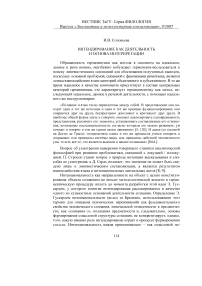Интендирование как деятельность и основа интерпретации
Автор: Соловьева Ирина Валерьевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Проблемы теории
Статья в выпуске: 9, 2007 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/146120464
IDR: 146120464
Текст статьи Интендирование как деятельность и основа интерпретации
ИНТЕНДИРОВАНИЕ КАК ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОСНОВА ИНТЕРПРЕТАЦИИ
Обращенность герменевтики как метода в основном на идеальное, данное в речи неявно, неизбежно побуждает герменевта-исследователя к поиску лингвистических оснований для обоснования полученных выводов, поскольку основной проблемой, связанной с феноменами речи/языка, является логика взаимодействия в нем категорий объективного и субъективного . В то же время идеальное в качестве компонента присутствует в составе центральных категорий герменевтики, что характеризует гермененевтику как метод, исследующий идеальное, данное в речевой деятельности, с помощью идеального же инструментария:
«Познание и язык тесно переплетены между собой. В представлении они находят один и тот же источник и один и тот же принцип функционирования; они опираются друг на друга, беспрестанно дополняют и критикуют друг друга. В наиболее общей форме знать и говорить означает анализировать одновременность представления, различать его элементы, устанавливать составляющие его отношения, возможные последовательности, согласно которым его можно развивать: ум познает и говорит в том же самом своем движении» [5: 120]. И далее (со ссылкой на Дестю де Траси): «посредством одних и тех же процессов учатся говорить и открывают или принципы системы мира, или принципы действий человеческого ума, то есть все то, что является высшим в наших познаниях» [Ibid.].
Вопрос об усмотрении намерения говорящего ставится аналитической философией при решении проблематики, связанной с локуцией / иллокуцией. П. Стросон ставит вопрос о природе интенции высказывания и способах ее усмотрения, а Д. Серль полагает, что значение не может быть сведено лишь к лингвистическим составляющим, а является результатом взаимодействия языка и интенциональных ментальных актов [8; 9].
Интенциональность как направленность на объект с целью конституирования объекта сознанием не вносит методологической ясности в герменевтическую процедуру вплоть до момента разработки этой идеи Э. Гуссерлем, у которого понятие интендирования рассматривается в качестве одного из сущностных оснований деятельности сознания. Определение Э. Гуссерлем интенциональности (вслед за Брентано, использовавшим этот термин для описания психических переживаний) как фундаментального свойства человеческого сознания, изначальной отнесенности к предметности, как «сознания о», полагания предметности и, следовательно, основы формирования смысловой структуры сознания, не конкретизирует, однако, того, какую именно роль интендирование играет в процессе формирования смысла. Интенциональность важна принципиально – как смысловой по- тенциал, проявление в произведениях речи того правила, что душевные (умственные) действия интенциональны [2: 30]. Проблема герменевтического метода состоит здесь в том, что «следы опыта рефлектирования над значащими переживаниями» вполне в духе дильтеевского «переживания структурной связи как идеальной составляющей опыта» [4] имеют столь же отдаленное отношение к собственно языку, какое имеет и собственно осваиваемый смысл, поскольку
«… понимаемое выступает перед реципиентом в виде смыслов, не слитых со значениями», несмотря на то, что «чем основательнее усваиваются… значения, тем больше вероятность дальнейшего пользования смыслами в очень широких пределах, хотя прямого перехода от значения к смыслу нет» [2: 31].
Г.И. Богин следующим образом описывает методологию действования при понимании:
«Интенциональность сознания – основа интенсионального характера дейст-вования при понимании текста: интенции указывают не на “объективные вещи” и даже не на их “образы”, а на следы опыта рефлектирования над значащими переживаниями, достаточно отдаленные в мире онтологических картин от следов опыта рефлектирования над предметными представлениями. В частности, интенсионально-ориентированная (смыслообразующая) рефлексия фиксируется в поясе чистого мышления (по базовой схеме системомыследеятельности). Единство интенциональной установки сознания и интенсиональной ориентированности понимания имеет ряд последствий – независимо от того, берется ли понимание процессуально или субстанциально» [2: 30] (см. также: [6]).
Неслучайным представляется терминологическое разведение Г.И. Богиным «интенциональности» как объективной основы деятельности понимающего сознания и «интенсиональности» как собственно акта направления сознания на объект дальнейшего понимания. Следует заметить, однако, что попытка развести эти понятия в пределах филологической герменевтики не приобрела дальнейшего развития.
Понятие интенциональности является барьером на пути многочисленных попыток «депсихологизации» лингвистики, поскольку интенция выступает в философских рассуждениях Э. Гуссерля в виде интенционального переживания, как «сознания-о», а, следовательно, «является основной дескриптивной характеристикой психических феноменов » [3: 109]. В качестве «существеннейшего в жизни сознания» [7] интенциональность составляет основу модусов данности вещи сознанию: созерцаний, воспоминаний, созерцаний, относящихся к другим модусам – к воспоминанию как созер-цанию-после (nachveranschaulichenden) и к ожиданию как созерцанию-до (vorveranschaulichenden); ведь и в воспоминании вещь является с разных сторон, в меняющихся перспективах и т.д. При этом, какими меняющимися ни были бы измерения описания модусов данности,
«Общим для всякого сознания вообще, как для сознания о чем-то, остается тот факт, что это “нечто”, некий интенциональный предмет как таковой, осознает- ся в нем как тождественное единство меняющихся ноэтических и ноэматических способов осознания, как доступных созерцанию, так и недоступных ему» [3: 108].
Описывая «Единство меняющихся ноэтических и ноэматических способов осознания» в качестве «интенционального предмета», Э.Гуссерль предлагает свое видение феноменологической процедуры его освоения сознанием, которое принимается в качестве философской основы современной герменевтики как метода интерпретации:
«… исходным пунктом каждый раз с необходимостью оказывается непосредственно данный предмет, от которого рефлексия возвращается к соответствующему способу осознания и к потенциальным способам осознания, заключенным в нем в плане горизонта, а затем к тем способам, в которых он, как тот же самый, мог бы быть осознан иначе, в единстве некой возможной жизни сознания» [Op. cit.: 123].
Продуктивность такого подхода для герменевтики очевидна, поскольку он описывает процесс действования интерпретирующего сознания от предпосылок – свойств самого объекта как данности сознанию – через рефлексию – к пониманию. Объект, в каком бы модусе он ни был дан сознанию, обсуждается как формат духа, в связи с чем и возможности интерпретации определяются различными ноэто-ноэматическими типами интенциональности:
«К таким типам интенциональности, свойственным всякому мыслимому предмету, относятся, например, возможное восприятие, ретенция, воспоминание, ожидание, означивание, созерцание по аналогии, равно как и типы их синтетического взаимосплетения. Все эти типы подразделяются далее в своем совокупном ноэто-ноэматическом строении, как только мы переходим к выделению особенностей в прежде пустой всеобщности интенционального предмета. Подразделения могут быть, во-первых, формально-логическими (формально-онтологическими); таковы модусы “нечто” вообще, например, нечто отдельное и, в пределе, индивидуальное, нечто всеобщее, нечто большее, целое, некое положение дел, некое отношение и т.д. Здесь проявляется также коренное различие между реальными предметностями и предметностями категориальными, причем источником последних признается последовательная конструктивно-производительная активность Я, выполняемые им операции, а источником первых – работа чисто пассивного синтеза» [Op. cit.: 124].
По Гуссерлю, любой объект, как данность сознанию, представляет собой ноэто-ноэматическую структуру, которая может быть систематически истолкована и обоснована в части интенционального протекания, типических горизонтов и имплицитного содержания. Ноэто-ноэматическая фиксация предмета как тождественности, при всей его подвижности в пределах различных модусов, не предполагает произвольности, поскольку основана на том, что Э. Гуссерль называет структурной типикой, остающейся неизменной при изменении способов осознания.
Тот факт, что душевные (умственные) действия интенциональны, проявляется в речи. Именно поэтому интенциональность и интенсиональность полагаются в качестве двух взаимодействующих параметров филологической герменевтики:
« Очень важно, что интенциональный объект оказывается таким образом осмысленным, несущим интенсиональность. Положение Гуссерля об интенциональности недоступно и неполно без положения Фреге об интенсиональности. Родство как этих учений, так и этих паронимических терминов – не случайность: интен-сиональность ситуации действования при понимании, то есть их смысловая субстанция и смысловой потенциал – проявление в произведениях речи того правила, что душевные (умственные) действия интенциональны. … Интенциональность есть направленность пробужденной средствами текста рефлексии на “душу”, в результате чего из ноэм родятся смыслы, интенсиональность же есть эпистемологическая ориентированность на смысл как противоположность содержанию и значению» [1: 4].
Интенциональность сознания представляет собой основу интенсионального характера действования при понимании текста, см. приведенную выше цитату: [2:30].
Г.И. Богин усматривает следующие последствия единства интенциональной установки сознания и интенсиональной ориентированности понимания при его обращении на текст, которые применимы и к любому иному речевому произведению: любой тип понимания пробуждает онтологические картины «внутри субъекта», при понимании текста категория интенциональности (направленной рефлексии), доминируя над категорией чувственности, делает чтение / восприятие на слух лучше; понимаемое на основе речи выступает в виде смыслов, не слитых с содержаниями и значениями; тем не менее, степень усвоения значений влияет на возможность пользоваться смыслами, хотя прямого перехода от значения к смыслу нет; герменевтические ситуации всегда строятся на приоритете смысла над значениями; интенциональная рефлексия перевыражает не в «объективные факты», а в смыслы, в действовании для понимания осваивается огромная множественность опредмеченных в тексте и очень плотно поставленных смыслов, что может приводить к «сотворению альтернативных миров» – смысловых систем, имеющих для того или иного читателя важность вне зависимости от той реальности, которая была представлена в тексте его автором. Процессуальные последствия единства интенциональной установки сознания и интенсиональной ориентированности понимания состоят в формировании техник понимания и построении оснований онтологических конструкций; рефлексия сама по себе не является интерпретацией, хотя интерпретация является высказанной рефлексией; понимание может переживаться субъектом в качестве эффекта чувственного восприятия.