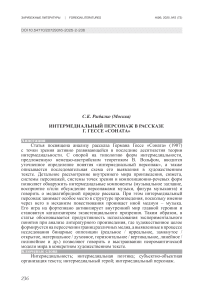Интермедиальный персонаж в рассказе Г. Гессе «Соната»
Автор: Рыбалко С.К.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Зарубежные литературы
Статья в выпуске: 2 (73), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу рассказа Германа Гессе «Соната» (1907) с точки зрения активно развивающейся в последние десятилетия теории интермедиальности. С опорой на типологию форм интермедиальности, предложенную немецко австрийским теоретиком В. Вольфом, вводится уточненное определение понятия «интермедиальный персонаж», а также описывается последовательная схема его выявления в художественном тексте. Детальное рассмотрение внутреннего мира произведения, сюжета, системы персонажей, системы точек зрения и композиционно речевых форм позволяет обнаружить интермедиальные компоненты (музыкальное заглавие, восприятие и/или обсуждение персонажами музыки, фигура музыканта) и говорить о медиагибридной природе рассказа. При этом интермедиальный персонаж занимает особое место в структуре произведения, поскольку именно через него в механизм повествования проникает иной медиум - музыка. Его игра на фортепиано активизирует внутренний мир главной героини и становится катализатором экзистенциального прозрения. Таким образом, в статье обосновывается продуктивность использования экспериментального понятия при анализе литературного произведения, где художественное целое формируется на пересечении границ различных медиа, а выявленные в процессе исследования бинарные оппозиции (реальное / ирреальное, замкнутое / открытое, материальное / духовное, горизонтальное / вертикальное, линейное / нелинейное и др.) позволяют говорить о выстраивании неоромантической модели мира в конкретном художественном тексте.
Интермедиальность, интермедиальная поэтика, субъектно объектная организация текста, интермедиальный герой, интермедиальный персонаж
Короткий адрес: https://sciup.org/149148615
IDR: 149148615 | DOI: 10.54770/20729316-2025-2-236
Текст научной статьи Интермедиальный персонаж в рассказе Г. Гессе «Соната»
Intermediality; intermedial poetics; subject-object organization of the text; intermedial hero; intermedial character.
«Будь я музыкант, я без труда бы сумел написать двухголосную мелодию, состоящую из двух линий, из двух рядов звуков или нот, которые соответствуют друг другу, дополняют друг друга, борются друг с другом <…> И каждый, кто умеет читать ноты, смог бы прочесть мою двойную мелодию, увидел бы и услышал при каждом звуке его противоположность, его брата, его врага, его антипода. И вот именно эту двухголосность, эту вечно идущую антитезу, эту двойную линию я хочу выразить своим материалом…» [Гессе 1995, 410] .
Анализируя музыкальное воздействие на некоторые художественные тексты немецко-швейцарского писателя, Юлия Игоревна Мориц справедливо отмечает: «Сказать об отношении Германа Гессе к музыке, о музыкальности у Гессе можно много – и говорить об этом при наличии довольно обширного материала, казалось бы, легко. И вместе с тем чрезвычайно трудно» [Мориц 2003, 161]. Действительно, если учесть довольно обширный массив писем и высказываний писателя о связи своего творчества и музыки, а также обратить внимание на общее количество произведений Гессе, в которых встречаются музыкальные отсылки и образы музыкантов (перечислим лишь несколько: сказка «Der Dichter», роман «Gertrud», повесть «Siddhartha», роман «Der Steppenwolf»), то может показаться, что анализировать музыкальность в упомянутых текстах довольно просто. Однако в процессе изучения таких сложноорганизованных произведений становится очевидной недостаточность использования сугубо литературоведческого подхода как в терминологическом, так и в аналитическом плане, и возникает острая потребность выйти за рамки вербального текста, обратиться к детальному рассмотрению упоминаемых в нем видов искусства, а также к смежным областям знания, фокусирующимся на их изучении (музыковедение, искусствоведение, театроведение и т.д.). Важно помнить, что в этом случае мы рискуем оставить в стороне нашу главную задачу, суть которой – «рассмотреть художественное целое как единый, динамически развивающийся и вместе с тем внутренне завершенный мир» [Гиршман 1991, 70], – и подменить подлинный анализ «механическим подведением различных элементов под общий смысловой знаменатель (единство без многообразия)» [Гиршман 1991, 70], либо «обособленным рассмотрением различных элементов целого (многообразие без единства)» [Гиршман 1991, 70] (литературоведческая Сцилла и Харибда, между которой по мнению М.М. Гиршмана должен суметь пройти исследователь). Дабы избежать выхода за рамки изучаемого нами произведения, но при этом расширить терминологические и интерпретационные возможности, мы обратимся к актуальной и динамично развивающейся в современных гуманитарных науках теории интермедиальности.
В последние десятилетия феномен интермедиальности находится в поле зрения отечественных и зарубежных литературоведов, философов и искусствоведов. Не считая целесообразным в рамках данной статьи пытаться углубиться в многообразие существующих подходов к определению природы и функционирования интермедиальности, обозначим лишь, что мы, вслед за немецко-австрийским теоретиком Вернером Вольфом, допускаем правомерность использования данного понятия при изучении всех явлений, в которых «можно наблюдать пересечение границ между медиа, которые традиционно рассматриваются как отдельные» [Wolf 2014, 21]. Очевидным преимуществом такого подхода является довольно широкая трактовка все еще терминологически не устоявшегося понятия «медиа», выходящего далеко за рамки рассмотрения исключительно произведений искусства и охватывающего множество других объектов, созданных или используемых людьми, открывающего широкие перспективы для исследователей.
Согласно концепции Вернера Вольфа, существуют две фундаментальные формы « интра- / интер- медиальных связей»: « вне композиционные» и « внутри композиционные» [см. Wolf 2017]. Каждый из указанных типов связей подразумевает особый способ взаимодействия нескольких медиа: если в первом случае перекрестное взаимодействие может сделать обращение к другому медиа менее очевидным (например, переработка словесного произведения в комикс или анимационный фильм), то при внутреннем взаимодействии идентифицировать обращение к другому медиа, как правило, становится значительно проще (например, описание картины в словесном тексте или изображение музыкального инструмента на живописной работе). Принципиально и то, что внекомпозиционные связи , как правило, конструируют моносемиотическое целое (в данном случае одно медиа «повторяется» в другом и/или трансформируется в другое), тогда как внутрикомпозиционные связи – полисемиотическую структуру (одно медиа «переплетается» с другим, в результате чего «поверхность» рассматриваемого объекта либо остается однородной, либо преобразовывается в медиагибридную).
Стоит также оговорить, что упомянутое взаимодействие в литературном произведении может реализовываться на разных уровнях, в том числе на субъектном уровне, за счет введения в текст фигуры музыканта или художника. В то же время такой персонаж становится проводником других медиа только в том случае, если он создает собственное произведение в рамках литературного текста, оказывая влияние на его внутренний мир. Для того чтобы избежать терминологической путаницы, мы будем обозначать таких субъектов действия « интермедиальными персонажами ».
Поскольку речь идет об экспериментальном понятии, считаем необходимым указать, что «“ интермедиальный персонаж ” – это специфический субъект действия, творец (художник, скульптор, музыкант, актер и т.п.), создающий произведения других видов искусств внутри литературного текста и преобразовывающий структуру внутреннего мира произведения, делая его интермедиальным (включающим в себя несколько медиа, т.е. видов искусства). Способность к преобразованию внутреннего мира путем создания произведений искусства относится к фундаментальным чертам такого персонажа, поэтому описание самого процесса творения обязательно должно фигурировать в тексте» [Рыбалко 2024, 35]. Методика выявления в тексте фигуры интермедиального персонажа связана с рассмотрением устройства внутреннего мира произведения, сюжета , системы персонажей , системы точек зрения [см. Успенский 1995] и композиционно-речевых форм [см. Тамарченко 2004].
Рассказ Г. Гессе «Соната» («Eine Sonate», 1907), впервые опубликованный в литературно-художественном сатирическом журнале «Simplicissimus» (издавался с 1896 г. по 1944 г.), как нельзя лучше подходит для рассмотрения внутрикомпозиционных форм интермедиальности не столько из-за заглавия, отсылающего читателя к жанру инструментальной музыки, сколько из-за наличия в тексте фигуры интермедиального персонажа.
Следуя методологическому плану, рассмотрим подробнее основные пространственные и временные особенностипроизведениявихсоотнесенности с одним из важнейших элементов архитектоники художественного целого – вставными мирами произведения.
Внутренний мир художественного текста, на наш взгляд, может быть условно разделен на две части: мир реальный и мир ирреальный (воображаемый). Пространство реального мира обозначается локусом дома четы Дилениус, являющегося средоточием бюргерского благополучия и непосредственным местом действия в рассказе. Несмотря на отсутствие в тексте подробного описания экстерьера (внешнего облика) и интерьера (внутреннего оформления) здания, можно заметить, что все пространство дома делится на несколько частей: гостиную (der Salon), столовую (das Speisezimmer), прихожую (der Flur). В изолированности образа дома от всего остального мира проявляется важная пространственная оппозиция замкнутого – открытого, где первая характеристика оказывается связана с размеренным образом жизни типичного обывателя, а вторая – с противопоставленными этой размеренности прерывистыми поисками персонажами счастья и их попытками познать самих себя, которые характерны только для сложных творческих натур. В этой связи особенно примечательной оказывается неудовлетворенность героини существующим порядком вещей: «Но он был доволен – ею и своей жизнью, доволен работой, едой, малой толикой радостей, а она не была довольна этой жизнью» [Гессе 1995, 400]. Таким образом, отмеченная ранее замкнутость дома свидетельствует о неразрывной связи реального мира и прагматичной бюргерской культуры, что косвенно подтверждает и отсутствие подробного описания места (один из элементов типизации), и его ярко выраженная «материальность» (упомянутые в самом начале рассказа листы из дюреровской папки и копенгагенская фарфоровая статуэтка не являются настоящими произведениями искусства, а, скорее, относятся к изделиям массового производства, сохраняющим только внешнюю форму объекта, но не его внутреннее содержание, потому как буржуазный мир способен лишь разрушать или извращать то, что не в силах понять). Единственным способом вырваться за рамки такого мира становится приобщение к подлинному искусству – музыке.
Описанному ранее пространству реального мира противопоставляется мир ирреальный (воображаемый) , при рассмотрении которого нам необходимо обратиться к еще одному важному понятию « воображаемого мира героя », поскольку оно напрямую соотносится как с объектным (кругозор повествователя), так и с субъектным (кругозор героя и/или персонажа) уровнями художественного целого. Как пишет О.В. Дрейфельд, данная категория представляет собой «изображенный автором <…> образ реальности, возникающий в воображении героя. Такой образ осуществляется во множестве форм: сновидения, мечты, фантазии, воспоминания, грезы, миража…» [Дрейфельд 2015, 4]. В тексте Гессе воображаемый мир также связан с сознанием и памятью госпожи Хедвиг Дилениус и возникает как специфическая «реакция» этого персонажа на музыку.
Возникновение ирреального (воображаемого) мира связывается с поворотным моментом в судьбе главной героини (прослушивание фортепианной сонаты немецкого композитора конца XIX в. – начала XX в. Макса Регера), который влечет за собой трансформацию ее мировоззрения (нарастающая неудовлетворенность тем, как сложилась семейная жизнь, в итоге оборачивается осознанием полной несовместимости с мужем). Однако этому предшествует череда длинных размышлений и воспоминаний Хедвиг о жизни в деревне до замужества (данный сегмент текста занимает практически 1/3 от всего рассказа), явленная в речи повествователя, но отчетливо транслирующая точку зрения конкретного персонажа (прием несобственно-прямой речи). Сложно не заметить, что отмеченный процесс рефлексии запускается после несмелых попыток героини заиграть на музыкальном инструменте (рояле): «Она взяла несколько нот, ища какую-то полузабытую мелодию, и прислушалась к гармоничному замиранию струн. Тихая, затухающая дрожь становилась все мельче и нереальнее, а потом наступили мгновенья, когда неясно было, звучат ли все еще эти несколько нот или тихий гул в ушах – только воспоминание» [Гессе 1995, 400]. В этот момент Хедвиг начинает осознавать неудовлетворенность собственной внешне благополучной жизнью, а действительность становится для нее «зыбкой и сомнительной» [Гессе 1995, 400]. Завершение процесса трансформации мировоззрения совпадает с «возвращением» героини из ирреального (воображаемого) мира .
Пространство ирреального (воображаемого) мира рождается в сознании Хедвиг в момент игры интермедиального персонажа (Людвиг, брат госпожи Дилениус) на рояле: «Людвиг играл, и она видела, как в медленном такте колышется темный простор воды <…> В шуме волн, ветра и больших крыльев звучало что-то таинственное <…> Тучи мчались черными, разорванными грядами, в них отверзались дивные просветы золотой глубины небес <…>
Прибой отозвался в рояле тихим, медленно замирающим отзвуком и умолк, и наступила глубокая тишина» [Гессе 1995, 403]. Возникающие перед мысленным взором героини морская и небесная стихии явственно противопоставляются пространству дома ( открытость – замкнутость ). Также по приведенному фрагменту становится понятно, что фантазии и/или видéния Хедвиг связаны с природной образностью (вода, волны, ветер, небо и т.д.). Концептуально значимыми оказываются и специфические свойства двух упомянутых стихий: изменчивость воды и эфемерность ветра с тучами. Подобно музыкальным звукам, эти постоянно меняющиеся природные образы противопоставлены квазиэстетическим и навсегда «застывшим» дюреровскому альбому и статуэтке (оппозиция статики – динамики ). Более того, впервые на смену пространственной горизонтали ( мир секулярный ) приходит вертикаль ( мир сакральный ).
Временной план произведения тесным образом связан с пространственным и тоже подчеркивает принципиальное различие двух частей мира ( реального – ирреального / воображаемого ). В изолированном от внешней среды реальном бюргерском мире время движется линейно , причем описанный в тексте день из жизни госпожи Хедвиг Дилениус отчетливо делится на четыре временных интервала: утро («Она <…> услышала, как на соседней башне пробило полдень» [Гессе 1995, 399–400]), день («Раздался звонок, послышались его шаги в передней, отворилась дверь, и вошел он <…> Затем они сели обедать» [Гессе 1995, 401]), вечер («Около восьми пришел муж и сразу за ним Людвиг, ее брат. За ужином брат и сестра беседовали…» [Гессе 1995, 402]), ночь («Но она не смогла уснуть в эту ночь» [Гессе 1995, 404]). Существенным в данном случае оказывается и то, что указанные временные интервалы суток ( утро, день, вечер, ночь ) маркирую однообразность , «механистичность» буржуазного образа жизни (читатель с легкостью может предположить, что события этого дня не будут сильно отличаться от событий любого другого дня из жизни семейства Дилениус). При этом становится очевидной «закольцованность» построения рассказа: если в начале Хедвиг, находясь в пустом доме, впервые ощущает себя покинутой ( одиночество буквальное ), то в конце, несмотря на присутствие мужа, это чувство приобретает еще более глобальный характер ( одиночество экзистенциальное ).
Одновременно с этим можно заметить, как линейный ход времени сменяется нелинейным , когда в размышлениях Хедвиг начинают всплывать воспоминания о юности (оппозиция прошлого – настоящего ): «Она не стала больше играть, сложила руки на коленях и задумалась. Но думала она уже не так, как раньше, уже не так, как девушкой дома в деревне <…> С некоторых пор она думала о других вещах…» [Гессе 1995, 400]. В процессе восприятия музыки происходит мысленное перемещение героини в ирреальный (воображаемый) мир , где движение времени и вовсе «ускоряется», о чем косвенно свидетельствует длинное перечисление последовательно сменяющих друг друга образов, которые проносятся перед ее взором (слияние музыкального и визуального планов).
Подводя итог рассмотрению пространственно-временного устройства рассказа, мы приходим к выводу, что в тексте обнаруживается неоромантическое по своей сути противопоставление реального и ирреального (воображаемого) миров (подробнее о неоромантической направленности творчества Гессе см.: [Седельник 2015]). Выделенные ранее пространственные (замкнутость – открытость; горизонталь – вертикаль), временные (линейность – нелинейность;
цикличность – ацикличность; замедленность – ускоренность; настоящее – прошлое), культурные (материальность – духовность; урбанистичность – пасторальность) и философские (внешнее – внутреннее) оппозиции отмечают принципиальные различия двух миров. Сюжетообразующим мотивом в произведении является противостояние жизни и искусства , нагляднее всего проявляющееся через разницу мировоззрений отдельных персонажей (бюргерское – творческое).
Переходя к анализу системы персонажей , скажем, что всех персонажей можно разделить на главных (Хедвиг) и второстепенных (господин Дилениус и Людвиг), если исходить из того, что мировоззренческий кризис, вокруг которого во многом и разворачивается сюжет произведения, переживает главная героиня рассказа (центральным событием в тексте, на наш взгляд, является прослушивание девушкой фортепианной сонаты и последовавшая за этим трансформация ее отношения к жизни). Именно Хедвиг Дилениус является «ценностным центром» произведения и занимает пограничное положение между двумя жизненными позициями других персонажей: бюргерски-рациональным и творчески-чувственным взглядами на мир .
Носителем рациональной точки зрения в тексте является безымянный муж Хедвиг – господин Дилениус. Традиционность его жизненного уклада подчеркивается распределением ролей и обязанностей в семье: женщина предстает в образе «хранительницы очага» и занимается ведением домашнего хозяйства, а мужчина – в образе «добытчика», часто пропадающего на работе. В репликах этого персонажа отчетливо проявляется апатичное отношение к «фантазиям» жены и неспособность чувственно воспринимать мир. Мечтательная супруга господина Дилениуса в определенный момент начинает осознавать различие между ними: «Все вышло не так, как она представляла <…> С некоторых пор ей нередко случалось изумленно глядеть на него и поражаться, что он такой, что у него нет больше крыльев, что он снисходительно улыбается, когда ей хочется рассказать ему о своей внутренней жизни» [Гессе 1995, 400–401].
На противоположном ценностном полюсе находится музыкант Людвиг, который является носителем чувственной точки зрения и выступает в качестве интермедиального персонажа . При помощи музыкального инструмента он пробуждает в Хедвиг творческое начало , мысленно переносящее героиню в ирреальный (воображаемый) мир . Таким образом, взаимоотношения далеких друг от друга супругов противопоставляются духовной близости брата с сестрой ( родство истинное – мнимое ). Любопытно и то, что в тексте нет описания самой музыки (экфрасис), зато приводятся визуальные образы, которые возникают в сознании Хедвиг в процессе прослушивания мелодии.
Обобщая сделанные наблюдения, подчеркнем, что при анализе структуры данного рассказа важно учитывать соотнесенность трех точек зрения на мир: бюргерски-рациональной (господин Дилениус), творчески-чувственной (Людвиг) и сомневающейся (Хедвиг). Автор демонстрирует ограниченность одностороннего восприятия мира (материальное не может существовать без духовного, и наоборот), подталкивая читателя к нивелированию полярных различий и «самоопределению» по отношению к собственному жизненному пути. Если универсализировать сказанное, то выходит, что целью жизни любого человека (по Г. Гессе) должно быть стремление к счастью и, как следствие, обретение внутренней гармонии, то есть соединение двух начал (в этом можно усмотреть характерное для более поздних произведений автора использование концептов «vita activa» и «vita contemplativa»). Следовательно, не случайно, что именно Хедвиг является «ценностным центром» произведения. В то же время, открыв в себе творческое начало, героиня оказывается не способна порвать с бюргерским миром и отправиться на поиски счастья: «Людвиг несколько смущенно взглянул сестре в лицо. <…> он впервые увидел, что она считает нужным щадить мужа, потому что в нем нет чего-то нужного ей и присущего ей от природы» [Гессе 1995, 404].
Если возвращаться к интермедиальной специфике рассказа Г. Гессе «Соната», то можно сказать, что в тексте присутствует несколько внутрикомпозиционных форм интермедиальности: музыкальное заглавие литературного произведения, которое формирует у читателя особую оптику восприятия (ср. классическую трехчастную структуру сонаты с развитием сюжета в рассказе Гессе); восприятие и/или обсуждение персонажами музыкального произведения ; наличие в тексте фигуры музыканта , являющегося интермедиальным персонажем (согласно классификации В. Вольфа, все упомянутые типы интермедиальных связей являются проявлениями имплицитной и эксплицитной референции). Обращение к музыкальности происходит в том числе при помощи введения в текст фигуры интермедиального персонажа, который создает собственный эстетический объект и преобразует художественный мир произведения.