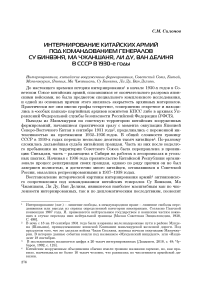Интернирование китайских армий под командованием генералов Су Бинвэня, Ма Чжаншаня, Ли Ду, Ван Делиня в СССР в 1930-е годы
Автор: Силонов Сергей Михайлович
Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu
Рубрика: История
Статья в выпуске: 2 (16), 2011 года.
Бесплатный доступ
Малоизвестной страницей истории российско-китайских отношений является интернирование в 1930-е годы в СССР китайцев, отступивших на советскую территорию после оккупации Маньчжурии японскими войсками. Исследование этой темы позволит дополнить историю китайской диаспоры в России.
Интернирование, китайские вооруженные формирования, советский союз, китай, маньчжурия, япония, ма чжаншань, су бинвэнь, ли ду, ван делинь
Короткий адрес: https://sciup.org/144153199
IDR: 144153199
Текст научной статьи Интернирование китайских армий под командованием генералов Су Бинвэня, Ма Чжаншаня, Ли Ду, Ван Делиня в СССР в 1930-е годы
До настоящего времени история интернирования1 в начале 1930-х годов в Советском Союзе китайских армий, спасавшихся от окончательного разгрома японскими войсками, не была предметом специального комплексного исследования, и одной из основных причин этого являлась закрытость архивных материалов. Практически все они имели грифы «секретно», «совершенно секретно» и находились в «особых папках» партийных архивов комитетов КПСС либо в архивах Управлений Федеральной службы безопасности Российской Федерации (УФСБ).
Выходы из Маньчжурии на советскую территорию китайских вооруженных формирований, начавшиеся практически сразу с момента оккупации Японией Северо-Восточного Китая в сентябре 1931 года2, продолжались с переменной интенсивностью на протяжении 1932–1936 годов. В общей сложности границу СССР в 1930-х годах перешло несколько десятков тысяч китайцев3. По-разному сложилась дальнейшая судьба китайских граждан. Часть из них после недолгого пребывания на территории Советского Союза была переправлена в провинцию Синьцзян, часть – размещена в Сибири на работах в леспромхозах и угольных шахтах. Начиная с 1936 года правительство Китайской Республики организовало процесс репатриации своих граждан, однако по ряду причин он не был завершен полностью, и достаточно много китайцев, остававшихся в Советской России, оказались репрессированными в 1937–1938 годах.
Восстановление исторической картины интернирования армий4 антияпонско-го сопротивления под командованием китайских генералов Су Бинвэня, Ма Чжаншаня, Ли Ду, Ван Делиня, явившегося наиболее масштабным как по численности интернированных, так и по дипломатическим последствиям, позволит существенно дополнить и по-новому взглянуть на общую историю российско-китайских отношений в 1930-е годы.
Так называемый «Мукденский инцидент», или «Инцидент 18 сентября» 1931 года, послужил поводом для начала оккупации японскими войсками территории Маньчжурии. В первые же дни были захвачены города Мукден, Гирин, Инкоу. 2 января 1932 года японские войска захватили Цзиньчжоу, куда эвакуировалось бывшее мукденское правительство. В начале февраля японцами был занят Харбин, с захватом которого оказались оккупированными все ключевые пункты региона: крупные торговые и политические центры и система железных дорог. Только на обоих флангах КВЖД в районе населенных пунктов Маньчжурия, Хайлар, Пограничная до конца 1932 года сохранялись войска под командованием китайских генералов, частью номинально признававших новый режим1 под японским протекторатом, частью открыто враждебных ему.
Центральное правительство в Нанкине, осознавая военную, политическую и экономическую слабость Китая, придерживалось тактики пассивного сопротивления агрессии, не стремилось к организации отпора. Получив известия о вторжении японцев, правительство «отдало приказ войскам уклоняться от активных военных столкновений» [Мировицкая, 1990, с.125–126]. В то же время позиция китайской общественности не была адекватной политическому курсу правительства: «она вытекала из таких реалий, как рост национального самосознания различных слоев общества, превращение национализма в доминирующий фактор в идеологической и политической жизни страны» [Мировицкая, 1990, с.126]. К тому же Япония считалась традиционным врагом страны и любые агрессивные действия с ее стороны в прошлом провоцировали широкие выступления народных масс. Захват Маньчжурии также сопровождался формированием антияпон-ского сопротивления. В сентябре 1932 года немецкая «Berliner Tageblatt» писала: «Японцам приходится нелегко. Крупные города прочно находятся в руках Манчжурского государства. Но манчжурская равнина за вычетом лишь узких полосок земли вдоль некоторых важнейших железнодорожных линий находится столь же прочно в руках повстанцев» [Терентьев, 1934].
Осуществляя наступление в Маньчжурии, японские войска расчленили гоминьдановскую армию на две части. Часть войск, расположенная в провинции Ляонин, не принимая боя, отошла в Северный Китай, другая часть была отрезана от собственно Китая и заблокирована в провинциях Гирин и Хэйлунцзян. Ряд китайских генералов, возглавлявших регулярные воинские формирования, приняли непосредственное участие в вооруженном противодействии режиму Мань-чжоу-го и японским оккупантам. Наиболее крупными воинскими формированиями, противостоявшими агрессии, потерпевшими поражение и впоследствии интернированными на территории Советского Союза, были:
-
1. «Армия самообороны Хэйлунцзяна» генерала Ма Чжаншаня.
-
2. «Армия спасения Родины» под командованием генерала Су Бинвэня.
-
3. «Армия самообороны Гирина» под руководством генералов Дин Чао и Ли Ду (так называемые «старогиринцы»).
-
4. «Народная национальная армия спасения» Ван Делиня.
Генерал Ма Чжаншань после «Мукденского инцидента» оказался в самой гуще событий, происходящих в Маньчжурии. Поведение и поступки Ма не отличались последовательностью, что позволило современным исследователям на его примере сделать выводы о целой когорте маньчжурских военачальников: «"Война" этих генералов с Японией сразу же выродилась в серию политических маневров, соответствующих обычаям милитаристских войн в Китае … каждый из этих генералов заинтересован главным образом в том, чтобы продать себя японцам с наибольшей выгодой, ряды японских ставленников стали быстро пополняться за счет бывших "национальных героев". В высшей степени характерен пример … генералов Ма и Тан Ю-лин» [Терентьев,1934].
Выражения автора сильные, но они отражали реальные события из биографии Ма. 10 октября 1931 года Чжан Сюэлян назначил Ма Чжаншаня губернатором и главнокомандующим вооруженными силами провинции Хейлунцзян. Ма предпринял ряд энергичных мер для организации отпора агрессорам, его анти-японская деятельность получила широкое освещение в международной, в том числе советской, прессе и послужила примером для многих китайцев, вставших на путь сопротивления оккупантам.
Тем не менее войска Ма понесли серьезные потери, а сам генерал согласился на поступившее от японцев предложение принять участие в формировании вооруженных сил вновь образованного государства Маньчжоу-го. В марте 1932 года он был назначен министром обороны Маньчжоу-го и одновременно губернатором провинции Хейлунцзян. Однако уже 7 апреля 1932 года в Хэйхе Ма провозгласил независимость Хейлунцзяна. Верные ему войска составили основу повстанческой армии. Но силы противоборствующих сторон были не равны, и, понеся серьезные потери, генерал с частью своих войск укрылся в горах Малого Хингана. В конце сентября 1932 года Ма принял участие в восстании генерала Су Бинвэня, после поражения оказался на территории СССР и был интернирован в начале декабря 1932 года.
В 1931 году генерал Су Бинвэнь возглавлял гарнизон Хулун Буир, в зоне его ответственности находился расположенный на крайнем западе провинции Хэйлунцзян Баргинский округ, граничащий с территорией СССР. 11 марта 1932 года генерал издал приказ по вверенным войскам о подчинении правительству Маньчжоу-го. Но 27 сентября китайские части, находившиеся под командованием Су, выступили против марионеточного правительства Маньчжоу-го. Его войска задержали всех японских резидентов, находившихся в районе действий китайских войск в городах Маньчжурия, Чжалайнор, Хайлар (всего 310 человек, в том числе 77 японских чинов отряда пограничной полиции Маньчжоу-го), и отказали в просьбе японского консульства разрешить эвакуацию японских подданных на советскую территорию [ДВП СССР, 1969, с. 560].
Действия генерала привели к существенной активизации советско-японской дипломатии. Официальный Токио обратился к СССР с просьбой оказать помощь в освобождении японских граждан, предоставить для ведения переговоров с китайцами свою территорию. Обстановка осложнялась тем, что Су отказывался от прямых переговоров с японцами. И это послужило основанием подозревать, что его действия управляются Москвой1. Ситуация нестабильного равновесия сохра- нялась до конца ноября. 28 ноября 1932 года японская 14 дивизия атаковала войска Су Бинвэня и присоединившиеся к ним силы Ма Чжаншаня.
Вечером 4 декабря 1932 г. Су Бинвэнь со своим штабом перешел советскую границу, самовольно прибыл на станцию Отпор в Забайкалье. 4–6 декабря 1932 г. было интернировано 4117 человек, в том числе 11 генералов, 17 полковников, 389 офицеров, 2400 солдат, 1300 гражданских лиц, из них около 650 женщин и детей [Сладковский, 1984, с.186]1.
В Северо-Восточной Маньчжурии сражался с оккупантами отряд Ван Делиня, бывшего командира батальона Гиринской армии Чжан Цзосяна. В течение 1932 года с момента объявления им о создании Национальной армии спасения численность его подразделения выросла с 200 до 10 000 человек. Ван привлек на свою сторону крестьянские братства, хунхузов, а также корейских националистов, уже имевших опыт борьбы против армии Маньчжоу-го. Используя партизанскую тактику, армия спасения наносила чувствительные удары экспедиционным силам японцев.
Основным очагом сопротивления патриотических сил на начальном этапе оккупации являлся Харбин, который обороняла «Армия самообороны Гирина» во главе с генералами Ли Ду и Дин Чао2. Японцам потребовался целый месяц для захвата города (5 января – 6 февраля 1932 г.). После его падения китайские формирования отступили в низовья реки Сунгари, где оперировали до января 1933 года [Лю Юн-ань, 1954].
Несмотря на наличие достаточно внушительных сил, сосредоточенных на северо-востоке провинции Гирин, в движении сопротивления имелись трудности с материально-техническим обеспечением, вооружением и боеприпасами, наблюдались организационная разобщенность и противоречия между различными формированиями. Поэтому, когда в конце декабря 1932 года японские войска совместно с вооруженными силами Маньчжоу-го начали очередной этап по уничтожению партизанского движения, китайские армии вынуждены были отступить на территорию СССР. 9, 13 января 1933 года в районе Имана и Турьего рога границу Советского Союза перешли «около 5 тысяч китайцев во главе с генералами Ли Ду и Ван Дэ-линем» [ДВП СССР, 1970, с. 26]. Во второй половине февраля интернированные китайцы были направлены с Дальнего Востока в Западную Сибирь. Общая численность армии генерала Ли Ду, проследовавшей через Красноярск в двух эшелонах, составила 2141 человек, включая 4 генералов, 6 полковников, 543 офицера (в т. ч. 3 переводчика), 1550 солдат, 29 членов семей и 9 женщин [Архив УФСБ. Ф. 9. Д. 688].
С разгромом и вытеснением на территорию СССР подразделений Су Бинвэня, Ма Чжаншаня, Ли Ду, Ван Делиня закончился важный этап в антияпонском сопротивлении в Маньчжурии. Во-первых, были разбиты силы, основу которых составляли регулярные войска. Во-вторых, ликвидировались «анклавные» территории на северо-западе и северо-востоке Маньчжурии, не подчинявшиеся властям Маньчжоу-го, являвшиеся ресурсной базой сопротивления.
В то же время с выходом указанных подразделений на территорию СССР начался этап, стоящий особняком в истории интернированных в Советском Союзе китайцев. Его основное отличие заключается в решении судьбы иностранцев и сравнительно небольших сроках пребывания интернированных в СССР. При этом активную заинтересованность проявили не только правительства СССР и Китайской Республики, восстановившие 12 декабря 1932 года дипломатические отношения, но и правительство Японии, обосновывавшее свой интерес к судьбе интернированных китайцев взятыми обязательствами по обеспечению безопасности Маньчжоу-го.
В соответствии с международным законодательством1 советская сторона объявила перешедших границу китайцев интернированными. Но уже 8 декабря 1932 года японское правительство обратилось к СССР с просьбой о выдаче генерала Су и его солдат [ДВП СССР, 1969, с. 677], не без основания полагая, что его «антиправительственная» деятельность, как и в случае с генералом Ма, послужит вдохновляющим примером для «непокорных элементов» в Маньчжоу-го. Заместитель наркома иностранных дел Л. Карахан «…заявил, что Советское правительство … не может даже принять к обсуждению вопроса о его выдаче» [ДВП СССР, 1970, с. 677]. Проявив твердость при решении проблемы интернированных, СССР сразу дал понять, что она относится к двусторонним советско-китайским отношениям и «дальнейшая их судьба находится в зависимости от обмена мнениями, который по этому вопросу имеет место между Советским и китайским правительствами» [Известия, 1932].
Вопрос о будущем армии Су Бинвэня сразу приобрел особую актуальность. Сначала предполагалось переправить интернированных китайцев в Китай через Владивосток, но сделать это оказалось невозможным. Как выяснилось, у интернированных не было средств ни на выезд, ни на проживание в СССР. Вопрос о финансовом обеспечении перевозки и содержания интернированных советское правительство поставило перед китайской делегацией, находившейся в Москве, 22 декабря 1932 года.
К этому времени китайские военнослужащие уже были переброшены в город Томск. Такие действия Советского правительства вполне укладывались в рамки, определенные международным законодательством, устанавливавшем, что «нейтральное государство, принявшее на свою территорию войска, принадлежащие к воюющим армиям, обязано водворить их, по возможности, далеко от театра войны. Оно может содержать их в лагерях … или приспособленных для этой цели местах»2.
Утром 11 декабря 1932 года командующий войсками Сибирского военного округа М.К. Левандовский по телефону сообщил властям Томска, что «по распоряжению Москвы» в городе в двухдневный срок должны обеспечить условия для приема китайской армии. Интернированных разместили в учреждениях Сибла-га, но за счет средств военного ведомства. Норма питания для китайцев соответствовала норме призывников в Красную Армию, в короткие сроки были решены вопросы с помещением, отоплением, водоснабжением, постельными принадлеж- ностями, подготовлена больница на сорок коек. Семьям китайцев разрешалось жить вместе, бараки для генералитета надлежало оборудовать лучше остальных. Все действия Советского правительства по размещению интернированных предпринимались в соответствии с международными нормами, определявшими, что «нейтральное государство принимает на себя довольствие водворенных пищею и одеждою, а также оказывает им помощь, требуемую человеколюбием»1.
Несмотря на первоначальные планы быстрой эвакуации, китайская армия вынуждена была в Сибири перезимовать. Основной проблемой, обусловившей задержку интернированных в СССР, стали выбор путей и поиск источников финансирования транспортировки китайских граждан правительством Китайской Республики. 8 января 1933 года официальный Нанкин впервые обратился к советскому правительству с просьбой эвакуировать всех интернированных солдат и офицеров бывшей армии Су Бинвэня в Синьцзян (кроме него самого, генерала Ма и нескольких других высших офицеров, которых просили отправить в Китай через Европу). Принципиальных возражений против такого решения у Советского правительства не было. Более того, 13 января заместитель наркома иностранных дел Л. Карахан после перехода на территорию СССР войск Ли Ду и Ван Делиня обратился с просьбой к китайским официальным лицам ускорить получение ответа от председателя синьцзянского правительства Цзинь Шу-жэ-ня2 о согласии принять интернированных и переводе необходимых для их перемещения сумм3. Учитывая суровые климатические и сложные транспортные условия пути из Западной Сибири в Синьцзян, СССР предложил отправить женщин и детей, находящихся в Томске, пароходом из Владивостока в Шанхай [ДВП СССР, 1970, с. 23, 26–27]. Для военнослужащих разрабатывался вариант перемещения в походном (пешем) порядке от конечного железнодорожного пункта Турксиба (станция Аягур) до советско-китайской границы. 1 февраля 1933 года МИД Китая сообщило в Москву о том, что во Владивосток направляется специальное судно для гражданских лиц. 14 февраля в Москву поступил китайский план эвакуации, согласно которому интернированные выехали на родину. На апрель 1933 года в Синьцзян было «передано … 8.609 кит.солдат» [Русско-китайские отношения…, 2010, с. 147]. Армия Ли Ду была переправлена в Синьцзян к лету 1933 года [Архив УФСБ]. Су Бинвэнь, Ма Чжаньшань, Ли Ду, Ван Делинь получили разрешение на выезд в Китай через Европу. По просьбе китайского посла генералам возвратили личное оружие. За пребывание интернированных китайцев на советской территории китайское правительство выплатило СССР 10 млн. американских долларов [Чубаров, 1992, с. 124]. В 1935 году японское правительство возместило СССР расходы по эвакуации японских резидентов из Маньчжурии через советскую территорию в размере 200 тысяч иен
[РГАСПИ. Ф. 17. О. 162. Д. 18. Л. 47]. В дальнейшем отработанный маршрут переброски интернированных в Западный Китай использовался еще не раз.
Путь решения проблемы интернированных китайских военнослужащих, реализованный Советским правительством в соответствии с международным законодательством, оказался приемлемым для всех вовлеченных в события участников. Для Советского Союза, благодаря его твердой и основанной на международном праве позиции, интернированные не стали источником обострения отношений с Японией, поводом для втягивания в сколько-нибудь серьезный вооруженный конфликт на Дальнем Востоке. Участие СССР в судьбе китайских граждан, совпавшее с восстановлением дипломатических отношений с Китаем, явилось наглядным примером позитивных перемен в советско-китайском сотрудничестве. Даже для Японии интернирование и переброска в Западный Китай анти-японских сил принесли определенный положительный эффект, устранив с театра военных действий в Маньчжурии вооруженные формирования, которые, несмотря на «умиротворение», потенциально могли служить ресурсной подпиткой движения сопротивления. Но больше всего положительных эмоций возвращение на родину доставило самим интернированным.
Архивные материалы
-
1. Архив УФСБ по Красноярскому краю (Архив УФСБ).
-
2. Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ).