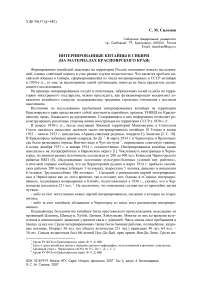Интернированные китайцы в Сибири (на материалах Красноярского края)
Автор: Силонов С.М.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Исследования
Статья в выпуске: 4 т.6, 2007 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14736908
IDR: 14736908 | УДК: 94(571)(=581)
Текст статьи Интернированные китайцы в Сибири (на материалах Красноярского края)
Формированию китайской диаспоры на территории России посвящено немало исследований, однако советский период в этих рамках изучен недостаточно. Что касается проблем китайской общины в Сибири, сформировавшейся из числа интернированных в СССР китайцев в 1930-е гг., то она, за исключением одной публикации, никогда не была предметом специального исследования.
На примере интернированных солдат и повстанцев, заброшенных волей судьбы на территорию иностранного государства, можно проследить, как функционировали механизмы локального китайского социума, поддерживались традиции, строились отношения с местным населением.
Источники по исследованию пребывания интернированных китайцев на территории Красноярского края представляют собой документы партийных органов, УНКВД по Красноярскому краю, Хакасского рудоуправления. Содержащаяся в них информация позволяет реконструировать различные стороны жизни иностранцев на территории СССР в 1930-х гг.
В начале 1930-х гг., после оккупации Японией территории Маньчжурии, в Советском Союзе оказалось несколько десятков тысяч интернированных китайцев. В Томске в конце 1932 – начале 1933 г. находилась «Армия спасения родины» генерала Су Бинвэня [2. С. 10]. В Красноярске побывала армия генерала Ли Ду 1 . В марте 1934 г. в Черногорке и Прокопьевске были размещены отряды Ван-мю-джю и Чун-ди-чуна 2 , перешедшие советскую границу в конце декабря 1933 г. и январе 1934 г. соответственно. Интернированные китайцы также находились на лесоразработках в Нарымском округе [1]. Численность иностранцев в Черногорке, по данным разных источников, составляла от 200 до 400 чел. Комиссия Черногорского райкома ВКП (б), обследовавшая «состояние культурно-бытовых условий кит. рабочих», в итоговой справке сообщала, что на Черногорский рудник в марте 1934 г. прибыло «китайских рабочих 200 человек (сбежало 3 человека), подростков 5 человек, раненых и инвалидов 6 человек. Трудоспособных 186 человек» 3 . Сведений о размещении партий интернированных в Черногорске как до этого времени, так и позднее, нет. Однако в «Списках интернированных, подлежащих возвращению в Китай», подготовленных в 1936 г., указано, что в Чер-ногорске находится 231 чел. 4 . Не исключено, что изменение состава могло произойти двумя путями:
-
- либо за счет поступления новых партий интернированных, сведения о которых не сохранились;
-
- либо за счет китайцев, сбежавших в Черногорку из иных мест размещения интернированных.
Подавляющее большинство китайцев были крестьянского происхождения, выходцами из провинций Цзилинь, Шаньдун, Хубэй, Ляонин, Хэйлунцзян. Многие из них ко времени вступления в антияпонское движение утратили связь с деревней. Часть имела опыт пребывания в бандах хунхузов. Среди интернированных также были бывшие рабочие, полицейские, кадровые военные. Возраст 56 чел. (из общего количества 231 чел.) превышал 40 лет, 64 чел. – 30 лет. Самым возрастным был 66-летний Цоу-До-Цай, врач армии Ван-Де-Лина. Среди ин- тернированных китайцев преобладали холостяки, лишь четверо были женаты, двое из них появились в Сибири с женами и семьями. Грамотными и малограмотными были 16 и 24 чел. соответственно.
Практически у всех иностранцев отсутствовали документы, удостоверяющие личность. Пофамильные списки составлялись со слов самих опрашиваемых, китайские имена при этом воспринимались на слух. Поэтому часто существовало несколько вариантов употребления фамилий иностранцев. Так, в ходе переписки о судьбе и местонахождении генерала Чжан-Ши-Хо его фамилия писалась как Чан-Си-Ху, Чан-Чи-Ху, Чжан-Си-Хоу (последний вариант был определен как наиболее правильный).
О материальном положении иностранцев свидетельствуют результаты обследования комиссией Черногорского райкома ВКП (б) бытовых условий китайцев: «Прибывшие на рудник совершенно не имели подходящей обуви, а также и одежды, белья и постельных принадлежностей» 5 . В счет будущей зарплаты им было выдано 120 пар обуви, 490 м ткани для пошива одежды.
Еще до перехода на территорию СССР в отряде Чуна было создано «Братство», построенное на принципах возрастной иерархии 6 . В него входило 24 чел. из состава подразделения. Командир отряда Чун был 16-м братом. Задачей организации было «жить между собой дружно, один другому помогать, сообщать о погибшем брате по месту его старого жительства…». В договоре о создании «Братства» говорилось о необходимости «объединить фронт, объединить мысль», т. е. по всем вопросам у членов организации должна быть единая точка зрения. Например, «мы были в антияпонском отряде и старший брат бы нам сказал: “Мы воевать против японцев не должны и что нужно перейти на сторону Японии”, и мы должны были бы этому подчиниться, или он бы сказал: “нужно убить человека”, и мы должны были бы это сделать» 7 . Трудно оценить, как деятельность такой псевдородственной структуры согласовывалась с принципами единоначалия в период действия подразделения в Китае, но в ходе пребывания в СССР она стала одной из основ внутреннего конфликта в среде интернированных, оказывая негативное влияние как на бытовую, так и на производственную сферу жизни отряда.
По прибытии на Черногорский рудник интернированные были разбиты на группы (взводы), во главе которых поставлены командиры, отвечавшие за поддержание дисциплины и выход на работу. Такая форма организации труда сохранялась до середины 1935 г. Командир отряда Чун-Ди-Чун был настроен просоветски, и власти с администрацией рудника сделали ставку на него как на организатора производства.
Китайцы использовались на вспомогательных участках черногорских шахт № 3 (22 чел.), № 7 (21 чел.), № 8 (27 чел.), а также в строительном цехе. Трудились лесоносами, отбойщиками (60 чел.), забутовщиками, откатчиками, крепильщиками, землекопами и чернорабочими (на последних работах было задействовано 107 чел. из 186 трудоспособных). Двое из интернированных работали учителями-ликвидаторами неграмотности среди китайцев 8 .
Несмотря на то что «нормы выработки и расценки были доведены до каждого рабочего китайца», проводилась «разъяснительная работа, что обозначает соцсоревнование и ударничество», отношение иностранцев к работе было на низком уровне. Исследуя производственные показатели, комиссия РК ВКП (б) установила, что нормы выработки из общего числа работающих китайцев перевыполняет всего 13 чел. В апреле 1934 г. по первому строительному участку 10 лучших работников выполняли норму выработки на 58 %, 10 худших – на 38 %; по второму строительному участку – соответственно на 81 и 49 %; по третьему строительному участку – на 62 и 23 % 9. Подобная картина была и среди китайцев, занятых на вспомогательных работах в шахтах. В 1934 г. к первомайскому празднику одному из китайцев, трудившихся в забое, была выдана премия 100 руб., двум землекопам – премии по 50 руб. (средняя зарплата в феврале 1935 г. на основном производстве в шахте составляла 190–205 руб.). Однако материальное стимулирование существенного эффекта не давало. Та же комиссия вынуждена была сделать вывод: «не доведено еще до полного сознания китай- ских рабочих, что при условиях высокой производительности труда улучшается свое материальное положение» 10.
Тема отношения к труду в среде интернированных стала сферой столкновения «традиционных» и «современных» механизмов управления и функционирования китайской общины. Бывший командир отряда Чун-ди-чун, его заместитель Чан-фа и их сторонники являлись проводниками идеи «хороший труд – хорошая зарплата». Группа, сплотившаяся вокруг «старшего брата» (согласно иерархии «Братства») Лу-фун-яна, пыталась внушить землякам, что «если будем хорошо работать, то нас оставят здесь надолго». Для захвата влияния среди земляков Лу-фун-ян сумел организовать недовольных и дал указание убить Чуна. После устранения командира, в течение 1934 г. приближенные Лу-фун-яна подготовили ряд писем и записок от рядовых китайцев (подписи от них получали обманным путем) в адрес администрации рудника и ОГПУ с информацией дискредитирующего характера в отношении Чан-фа, обвиняя того в призывах к забастовкам, отказам от работы. На самом деле, в мае и в июне 1934 г. китайские рабочие дважды организовывали забастовки, однако Чан-фа не имел отношения к их организации.
Поводом к первой послужил несчастный случай с бывшим командиром батальона Ян-по-чином, который был убит камнем во время работы. В течение двух дней интернированные бастовали, но подлинной причиной невыхода на работу, по объяснениям самих иностранцев, было желание выехать на родину. Один из организаторов забастовки на собрании китайцев говорил: «У нас убило человека, а мы молчим, нужно бросить работу и требовать, чтобы нам сообщили, где находится начальник всех интернированных отрядов Чан-чи-хэ, который должен знать, где мы находимся, а мы должны знать, где он находится. Такая связь нам необходима для того, чтобы выехать обратно в Китай» 11 .
Причиной второй забастовки в июне 1934 г. была «малая зарплата, на которую нельзя существовать». В течение нескольких смен на работу не выходили китайцы-рабочие шахты № 8. Однако их попытки поднять на забастовку интернированных, трудившихся на других производствах, не увенчались успехом 12 . 12 августа 1934 г. китайские рабочие устроили «волынку», причиной которой стало «изъятие реакционно настроенных офицеров из отряда». В течение шести часов 100 чел. пикетировали отделение милиции, требуя отпустить на волю своих командиров.
За год пребывания на территории Черногорки отношение китайцев к труду заметно изменилось, причем в негативную сторону. В июле 1935 г. администрация рудника отмечала, что «среди китайских рабочих чувствуется полная разнузданность, упадок дисциплины, и 109 человек на протяжении четырех месяцев нигде не работают, занимаются карточной игрой и спекуляцией» 13 . На отношение китайцев к труду влиял ряд факторов. Во-первых, считая себя интернированными, они полагали, что их состояние временное, и жили ожиданием отправки на родину. Во-вторых, противоречия внутри китайской общины, использование различными группировками производственной темы в борьбе за влияние негативно отражались на трудовой дисциплине. В-третьих, часть китайцев представляла собой деклассированные элементы, для которых труд как таковой был неприемлемым занятием. Их позиция, «что можно совершенно не работать, а кушать что угодно» действовала отрицательным образом на остальных интернированных.
Как попытку сохранения традиционных форм жизненного уклада можно рассматривать создание по инициативе Лу-фун-яна «Комитета правды» 14 . Главной его задачей ставилось «повышение дисциплины среди китайцев». Один из пунктов устава Комитета обязывал не разглашать информацию о событиях внутренней жизни отряда, как в прошлом, так и в настоящем и будущем. В случае нарушения требования «старший брат» мог покарать отступника, побив или убив его. Не исключено, что, создавая Комитет, Лу преследовал совершенно прозаические цели – укрепить собственное влияние в китайской общине, но сделал он это в форме, понятной и приемлемой для всех интернированных.
Среди отрицательных явлений отмечались случаи избиения и оскорбления интернированными работниц рудника. Поскольку такие факты были не единичными, то послужили причиной для следующего вывода комиссии: «не доведено еще до сознания китайских рабочих вопроса о равноправии мужчин и женщин в Советском Союзе и, как следствие, понимание у китайцев осталось явно буржуазное, что над женщинами можно издеваться, бить, ругать…» 15 .
Непросто складывались взаимоотношения китайцев с местными рабочими. Представители рудоуправления в письме в УНКВД констатировали: «развивается хулиганство, которое подчас сопровождается избиением русских рабочих, а также и руководящего состава. Так, например, 1) избиение десятника шахты № 7 тов. Карякина, 2) работницы шахты № 7-бис тов. Прокопьевой, 3) на шахте № 3 избили канд. ВКП (б) тов. Шерстобитова, 4) покушение на избиение управляющего шахты № 3 тов. Чайкина, 5) аналогичное дело обстояло с главным механиком Рудоуправления Андриани. Подобных фактов можно найти и перечислить десятки» 16 .
Однако взаимоотношения китайцев с местным населением были окрашены не только в негативные тона. В архивных источниках имеются упоминания о том, что иностранцы принимали участие в народных гуляниях, организованных администрацией рудника. Их приглашали на вечеринки жители Черногорки. Несколько китайцев обзавелись семьями, женившись на русских женщинах.
Единство и сплоченность внутри иностранного контингента отсутствовали. Социальные различия, бытовые противоречия, обиды, вынесенные еще из Китая, были причинами регулярных ссор и драк китайцев между собой. Проблема была настолько актуальной, что стала темой одного из собраний с интернированными, проведенных администрацией Черногорского рудника.
Объединяющим началом практически всех китайцев было стремление вернуться домой. Находившееся в Новосибирске консульство Китайской Республики не проявляло активности в решении судьбы сограждан. В 1935 г. вопрос с возвращением китайцев на родину казалось бы сдвинулся с места. Из Новосибирска поступила информация о готовности консульства к перемещению сограждан в Китай 17 . Однако эвакуация постоянно откладывалась и так и не была окончательно завершена. Попытки самостоятельно добраться до Китая обычно не приводили к успеху. Так, в 1934 г. 11 китайцев, находившихся на шахтах Прокопьевска, ушли из места сосредоточения с намерением через Танну-Туву вернуться на родину. Однако по дороге они заблудились, часть их была задержана и возвращена назад, часть оказалась на Черногорских копях 18 .
Несмотря на запрет передвижения за пределы Черногорских копей, ходатаи из числа интернированных регулярно выезжали в Новосибирск в китайское консульство. Так, некий Лю-те-сан-чжан сумел трижды побывать в консульстве, в том числе и для решения вопроса о возвращении в Китай членов семьи генерала Чжан-Си-Хоу 19 . Летом 1935 г. семья генерала была отправлена домой.
Были нестандартные истории с возвращением иностранцев на родину. В 1935 г. на основании пришедшего по дипломатическим каналам запроса китайской стороны органы НКВД разыскали Чжан-Кэ-Ина, сына начальника уезда Сюнхэ, попавшего в Черногорку в качестве пленника интернированного подразделения Чуна. В августе 1935 г. его переправили в Маньчжурию 20 .
Полных сведений о численности интернированных китайцев, возвратившихся на родину, нет. Судя по косвенным данным, к 1937 г. таких как минимум было несколько десятков человек. Однако документов, свидетельствующих об эвакуации иностранцев, не обнаружено. По крайней мере, шестеро из числа интернированных пожелали принять советское гражданство 21 .
Судьба примерно 30 китайцев прослеживается до 1937–1938 гг. Информацию о них дает анализ и сравнение «Списков интернированных…» с мартирологом, составленным красноярским отделением Общества «Мемориал». Все они, за исключением двух человек, были приговорены к высшей мере наказания и расстреляны в указанные годы в тюрьмах Красноярска, Абакана и Минусинска. В конечном счете прибывшие в Красноярский край в первой половине 1930-х гг. интернированные китайцы не смогли сформировать устойчивую общину или оказать заметное влияние на формирование китайского сообщества в Советской Сибири. Однако их история весьма показательна, она дополняет данные о специфике развития китайской общины за рубежом в целом, и в России в частности.
Материал поступил в редколлегию 06.06.2007