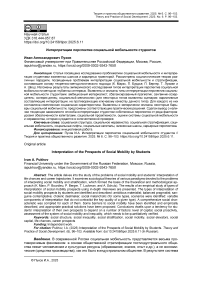Интерпретации перспектив социальной мобильности студентов
Автор: Пухов И.А.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 6, 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию проблематики социальной мобильности и интерпретации студентами жизненных шансов и карьерных траекторий. Рассмотрены социологические теории различных парадигм, посвященные проблемам интерпретации социальной мобильности и стратификации, составившие основу теоретикометодологического подхода (К. Маркс, П. Бурдье, П. Бергер, Т. Лукман и А. Шюц). Изложены результаты эмпирического исследования типов интерпретации перспектив социальной мобильности методом глубинных интервью. Выявлены и описаны типы интерпретации перспектив социальной мобильности студентами: амбициозный материалист; сбалансированный прагматик; сангвиниксозерцатель; холерикделец; социальный меланхолик (для некоторых типов выявлены сценарии: вариативные составляющие интерпретации, не противоречащие ключевому качеству данного типа). Для каждого из них составлена комплексная социальная характеристика. Выявлены и эмпирически описаны некоторые барьеры социальной мобильности, предложены соответствующие практические решения. Сделан вывод о наличии тенденции зависимости способа интерпретации студентом собственных перспектив от ряда факторов: уровня обеспеченности капиталами, социальной проактивности, оценки системы социальной мобильности и неравенства, которая нуждается в количественной проверке.
Социальная структура, социальное неравенство, социальная стратификация, социальная мобильность, социальные лифты, социальные капиталы, жизненные шансы, карьерные перспективы
Короткий адрес: https://sciup.org/149148448
IDR: 149148448 | УДК: 316.444-057.87 | DOI: 10.24158/tipor.2025.6.11
Текст научной статьи Интерпретации перспектив социальной мобильности студентов
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия, ,
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia, ,
мобильности должна создавать преимущества в социальном продвижении для более компетентных образованных индивидов (Шкаратан, 2011). Однако в реальности преимущества в развитии человеческого капитала все еще обусловлены существующим социально-экономическим расслоением общества (Рыбьякова, 2020). Высокая степень поляризации современного российского общества подтверждается тем, что коэффициент фондов (соотношение самых обеспеченных к самым материально неблагополучным), по предварительным расчетам за 2024 г., составил 15,1: на долю 10 % наиболее обеспеченного населения приходилось 30,0 % общего объема денежных доходов, а на долю 10 % наименее обеспеченного – 2,01. На практике жители с низким уровнем жизни сталкиваются со значительными препятствиями в доступе к социальным лифтам по сравнению с высокодоходными группами населения, чей экономический капитал становится необходимым условием получения культурных и социальных ресурсов.
Жители с низким уровнем жизни сталкиваются с препятствиями в доступе к социальным лифтам, по сравнению с высокодоходными группами, чей экономический капитал семьи (наряду с социальным) становится необходимым ресурсом для поступления в престижные вузы.
Таким образом, классовые основы социальной структуры современного российского капиталистического общества препятствуют равенству возможностей социальной мобильности, что выражается в создании препятствий модернизации и поступательному развитию общества и государства, а также в непонимании людьми личных перспектив социальной мобильности. В связи с этим исследование интерпретации перспектив социальной мобильности является актуальным и перспективным направлением современных социологических исследований.
В качестве эмпирического объекта были выбраны студенты высших учебных заведений г. Москвы, так как для этой социально-возрастной группы проблемы мобильности представляют особую актуальность, ведь молодым людям только предстоит найти свое место в общественноэкономической структуре. Существенную роль в данном случае играют именно представления обучающихся о своих жизненных шансах и амбициях, ведь именно на этапе молодости человек создает предпосылки к тому, какое место в обществе он займет.
Теоретико-методологические основы исследования . В рамках социологического подхода феномен социальной мобильности рассматривается, во-первых, в историческом контексте (применительно к конкретным обществам различных эпох), а во-вторых, в неразрывной связи с явлением социально-экономического неравенства, и более того, социальной стратификации, поскольку социальная мобильность происходит зачастую именно между стратифицированными, то есть стоящими в иерархическом порядке социальными группами. В наиболее общем смысле понятие «социальная мобильность» можно определить как механизм изменения социального положения индивидов, в полной мере отражающий состояние структуры общества и его систему стратификации (Батуренко, 2014).
Проблематика общественной мобильности в социологии рассматривается с точки зрения ряда различных парадигм. Структурные парадигмы, сосредоточенные на объективных аспектах социальной структуры и ее влиянии на мобильность, включают функционализм, конфликтную парадигму и марксизм. Функционализм (Т. Парсонс, Р. Мертон, Г. Алмонд, Н. Луман, Э. Дюркгейм, Г. Спенсер и др.) рассматривает социальную мобильность как механизм поддержания стабильности общества через структурированные роли и институты. Конфликтная парадигма (Р. Дарен-дорф, Л. Козер, Г. Зиммель, Р. Михельс и пр.) направлена на изучение борьбы за ресурсы и власть как движущую силу стратификации и мобильности. Марксистская парадигма (К. Маркс, Ф. Энгельс и др.) – на исследование классовых барьеров и экономических факторов, определяющих социальные перемещения.
Интерпретативные парадигмы предполагают изучение субъективного восприятия социальной реальности. Символический интеракционизм (Г. Блумер, Ч. Кули, Дж. Мид, У. Томас и пр.) рассматривал взаимодействие людей через символы, влияющие на восприятие возможностей мобильности, в том числе с ориентацией на референтные социальные группы, отражающие структуру стратификации. Феноменологическая парадигма (Э. Гуссерль, К. Леви-Стросс, П. Бергер, Т. Лукман, А. Шюц и пр.) предлагает подход, основанный на исследовании процессов конструирования социальной реальности самими индивидами в рамках повседневности и рутинных практик как основы субъективного понимания социальной мобильности.
Интегральные парадигмы предпринимают попытку синтеза структурного и интерпретативного подходов. Так, в рамках структурального конструктивизма П. Бурдье переосмысливаются понятия социального агента через термин «габитус», выражающий, с одной стороны, зависимость агента от социальных структур, а с другой – воспроизводство и изменение социальных структур в рамках деятельности агентов (Бурдье, 1993). Интегральная социология П. Сорокина подразумевает баланс между объективными структурными барьерами и индивидуальными восприятиями. Сам термин «социальная мобильность» был введен в социологический оборот П. Сорокиным, а его ключевая заслуга состоит в разработке обособленной теории социальной мобильности (в том числе введение понятий горизонтальной и вертикальной мобильности и их подвидов, а также исследование каналов и факторов мобильности) (Сорокин, 2005).
В основу нашего теоретико-методологического подхода была заложена теория П. Бурдье (1993), дополненная теориями феноменологической социологии – конструирования социальной реальности П. Бергера и Т. Лукмана (Berger, Luckmann, 1966), социальной мобильности П. Сорокина (Сорокин, 2005) и отдельными положениями марксистской социологии (в том числе акцентом на необходимости исследования классовых барьеров, экономических факторов, а также тенденции поляризации капиталистического общества).
П. Бурдье может быть причислен к ряду ученых, уделявших особое внимание проблеме социальной стратификации и мобильности современного общества. Для него понятие «класс» является, скорее, теоретической конструкцией, которая лишь при определенных условиях обретает черты реальной социальной группы (Бурдье, 1993). П. Бурдье заменяет понятие «классовая структура» термином «социальное пространство», обозначающим сеть отношений между агентами. Движение в этом пространстве определяется усилиями субъекта, его постоянным трудом и временем, затраченным на него. П. Бурдье считает последнее универсальным эквивалентом в системе социальной стратификации и мобильности (Бурдье, 2004). Дистанции между агентами в общественном пространстве измеряются количеством капитала.
Рассматривая вопросы социальной стратификации и мобильности сквозь призму объективизма и структурализма, не следует также забывать и о субъективной стороне данной проблемы, то есть о восприятии системы социальной мобильности и стратификации индивидами. В соответствии с теорией П. Бурдье различия в нем могут быть объяснены через дифференциацию габитусов, определяемых как система прочных приобретенных предрасположенностей, структур, предрасположенных функционировать как принципы, порождающие и организующие практики и представления. Таким образом, габитус встраивает новый опыт агента в систему уже имеющегося. Через него субъект обеспечивает себе, насколько возможно, среду, к которой он приспособлен, тем самым защищая себя от неопределенности и когнитивного диссонанса.
Н.Н. Козлова выделяет ключевые детерминанты габитуса: капитал, позиция в производственных отношениях, тип социальных связей, история группы и индивидуальная биография. Эти факторы опосредуют социальное поведение агента1.
Габитус, согласно П. Бурдье, во многом определяется доступными капиталами. Последние занимают особое положение в его теории. Ученый отходит от классического экономического понятия капитала, расширяя его фактически до социальных ресурсов, то есть трактуя как совокупность материальных и нематериальных средств, обеспечивающих достижение целей в социальной практике (Бурдье, 1993). Капитал (экономический, социальный, культурный, символический) дает власть в соответствующих социальных полях и может свободно конвертироваться. При этом важным положением теории П. Бурдье является тезис о схожести габитусов представителей одного класса. Ученый подчеркивает, что они сталкиваются с типичными для своего класса ситуациями (Бурдье, 1993).
Таким образом, габитус обеспечивает потенциал для продуцирования инновационных идей и практик, но ограничен историческими и социальными рамками своего возникновения. Он не допускает ни радикальных инноваций, ни механического повторения заданного.
Методика эмпирического исследования . В рамках выделенной проблемы в связи с необходимостью более детального исследования дифференцированного восприятия перспектив и траекторий социальной мобильности нами было проведено эмпирическое исследование методом глубинных интервью (n-29).
Целью исследования было избрано выявление и описание типов интерпретаций перспектив социальной мобильности студентами московских высших учебных заведений. Для ее реализации использовались глубинные интервью, поскольку этот метод наиболее подходит для выявления субъективных смысловых структур, вкладываемых информантами в понятия, и процессы, при этом он предоставляет респондентам свободу интерпретаций и рассуждений. В рамках неформализованного интервью инструментарий исследования содержал 4 блока, отражающие задачи исследования: социальное положение (в том числе обеспеченность капиталами); социальная проактивность; восприятие системы социальной мобильности в современной России; восприятие личных перспектив социальной мобильности.
Выборочную совокупность исследования составили 29 студентов московских высших учебных заведений, занимающих различные классовые позиции.
Результаты эмпирического исследования . В рамках процедур открытого и осевого кодирования были установлены и описаны следующие типы интерпретаций перспектив социальной мобильности: амбициозный материалист, сбалансированный прагматик, сангвиник-созерцатель, холерик-делец, меланхолик.
В основу такой классификации были заложены следующие ключевые аспекты интерпретации личных перспектив социальной мобильности: сфера самореализации; эксплораторский мотив; эмиграционный мотив; мотив эскапизма; предпочтение бизнеса/найма; стремление к среднему материальному положению; важность базовых потребностей; четкость видения перспектив; значимость баланса в жизни; важность профессиональной самореализации; готовность жертвовать ради нее; важность материального положения; значение нематериальных параметров жизни; склонность к планированию; стремление к определенному уровню материального положения; уровень демотивации.
Приведем краткую характеристику каждого из типов.
-
1. Амбициозный материалист. Данный тип характеризуется стремлением субъектов к высокому материальному положению. Информанты выражают желание переехать из России, чаще всего в Европу. Наиболее популярен эксплораторский мотив, прослеживается также мотив эскапизма, однако студенты планируют покинуть центры активной социальной жизни не в ближайшем будущем, а по достижении старшего возраста. Также для них характерно желание иметь собственный бизнес.
-
2. Сбалансированный прагматик. Данный тип характеризуется стремлением к среднему материальному положению, однако гораздо важнее для него отсутствие беспокойства за удовлетворение базовых потребностей. Субъекты реализуют два жизненных сценария. Первый – социальный флегматик. Для него наиболее характерно отсутствие четкого видения себя в будущем, однако важен и баланс в жизни, то есть он пытается сочетать семью, карьерный рост и отдых. Для таких людей характерно умеренное стремление к профессиональной самореализации. Второй сценарий – образцовый специалист – во многом схож с первым, однако у реализующих его субъектов намного более сильно выражен мотив профессиональной самореализации. Они готовы пожертвовать многим прочим ради достижения высот в своей сфере деятельности, стремятся «стабилизировать личную жизнь не только в плане отношений, скажем так, романтических, но и в плане в целом личных, друзья, семья и так далее», «иметь стабильную работу со стабильным, хорошим доходом», «недвижимость, чтобы была не в ипотеку, не в кредит» (женщина, 4 курс), «хочу машину новую… охота свою квартиру», «найти нормальную работу» (женщина, 4 курс). При воспитании ребенка (информанта) преобладает попустительский тип. В рамках материального положения прослеживается исключение средних позиций: информанты данного типа обладают либо низким, либо высоким материальным положением. Отмечается склонность к сочетанию самообразования, получения опыта и высшего образования. В контексте интерпретации системы социальной мобильности респонденты учитывают как объективные, так и субъективные факторы по отношению к системе социальной мобильности, фиксируют ее недостатки, в том числе атрофированность социальных лифтов. Преобладает слабо выраженная естественная установка.
-
3. Сангвиник-созерцатель. Данный тип характеризуется полным отрицанием материального положения как значимой категории. Первостепенными для них являются духовные качества, наличие крепкой семьи, надежного социального окружения. Они не планируют и не считают целеполагание нужным. Нередко прослеживается сильный мотив социального эскапизма и дауншифтинга: «Деньги, по большей части, не несут ничего, кроме отсрочивания во всех аспектах своей смерти», «Ориентация на финансы мне не нравится, я этим заниматься 100 % не буду», «Я бы безумно хотел иметь несколько максимально надежных друзей», «Я бы хотел уехать куда-нибудь подальше от большого количества людей», «Уеду в Мурманск, там себе куплю двушечку, однушечку и буду просто смотреть на Северный Ледовитый океан» (мужчина, 2 курс), «Богатый человек – это тот, которому мало надо. А мне довольно-таки немного надо. Мне не нужны личные острова, 10 квартир, 10 домов, 10 участков. Мне вот достаточно, чтобы я пришёл домой, рядом был ребёнок, любящая женщина, я покушал, поговорил с ней о чём-нибудь» (мужчина, 4 курс). В контексте условий семейной социализации прослеживается подавляющее преобладание патриархального типа распределения власти, склонность авторитарному типу при воспитании детей (информантов). Высокий уровень материального обеспечения. В собственности семей несколько объектов недвижимости, престижные машины по меркам соответствующего региона. Информанты не оценивают высшее образование как важный показатель культурного капитала, характеризуются подавляющей склонностью к высокой самооценке, уверенности в себе и умением адаптироваться в любых обстоятельствах. Отмечается, что система социальной мобильности в максимальной степени открыта, нет практически никаких преград для нее, поскольку она определяется личными качествами. Естественная установка выражена в средней или высокой степени.
-
4. Холерик-делец. Информанты данного типа отрицают возможность работы по найму, свои перспективы они видят только в бизнесе. Критическое нежелание работать в найме является ключевой объединяющей чертой данного типа, однако внутри него также обнаруживаются два различных сценария реализации жизненных стратегий, обусловленные разными мотивами и целями создания собственного дела. Первый из них подразумевает институционально одобряемое ведение бизнеса: в данном случае информанты видят возможность постепенного и легального создания своего дела в рамках поля своей профессиональной самореализации. Ключевой мотивацией данного сценария является то, что бизнес представляется респондентам единственным способом достичь безгранично высокого материального положения в современном мире. Второй сценарий, напротив, обусловлен намерением ведения любого бизнеса (в том числе «серого» или нелегального) и подразумевает стремление к независимости и проакеское отторжение к работе на кого-то, а не на себя как ключевые факторы мотивации. В обоих случаях присутствует мотив гедонизма, однако для первого сценария он имеет материалистические основы, а для второго – эмоциональные: «Какой-то очень-очень маленький бизнес. Хотелось бы. Главное, что свой. Мне не нравится идея работать на какого-либо человека», «Прожить жизнь на максимум» (мужчина, 4 курс), «Получаю навыки и рабочий опыт, работая в достаточно крупной компании. Для чего? Для того, чтобы потом учредить собственный бизнес», «Я считаю, что предела нет. То есть двигаться, пока ты сам не упрёшься в этот невидимый потолок, который тебя уже там не пропустит. Когда ты поймёшь, что больше ни твоих знаний, ни твоего интеллекта не хватает для того, чтобы пройти дальше» (мужчина, 4 курс). В контексте воспитания детей (информантов) преобладает подавляющая склонность детоцентричному типу. Средний уровень материального положения, занятость родителей в бизнесе. Культурный капитал выражается в получении самообразования и компетенций; высшее образование не воспринимается как важный его показатель. Информанты данного типа в максимальной степени уверены в своих силах и считают себя хозяевами своей судьбы. Естественная установка выражена в средней или высокой степени.
-
5. Социальный меланхолик. Для данного типа характерна интерпретация собственных перспектив как низких в материальном плане. Также этот тип предпочитает работу по найму и выражает нежелание вести собственный бизнес. Последнее обусловлено тем, что действуют институциональные барьеры: любой бизнес требует существенных вложений капитала, которые непросто заработать тем, у кого изначально нет капитала. В связи с этим единственным реализуемым сценарием является упорная и продолжительная наемная работа. Он реализуется в двух вариациях. В первом случае подразумевается упорный труд ради улучшения своего положения в будущем и в целом оптимистичный взгляд на перспективы социальной мобильности, только отдаленный по временной шкале ближе к среднему возрасту или старости. Во втором, напротив, демонстрируется пессимизм и вера в практическую невозможность существенной восходящей социальной мобильности: «Кем я себя вижу через 10 лет? Не знаю, честно. Возможно, просто каким-нибудь штатным юристом. Просто в какой-нибудь компании», «Я бы очень хотела жить отдельно. Уже сейчас. Но у меня нет возможностей. У меня не такая зарплата, чтобы я могла снять квартиру, например. Не хватит. Вообще нет. Естественно, я хочу жить отдельно… Хотелось бы иметь машину ещё, да»
В рамках данного типа выделяются два сценария – преемственности и сепарации. Первый из них характеризуется тем, что информанты с детства получают поддержку от семьи, и в рамках эксплораторского мотива учитывают свою ответственность перед семьей: они стремятся защитить и обезопасить семью, в том числе финансово. Второй сценарий, напротив, характеризует информантов, не имевших значимой поддержки семьи и практически не учитывающих ее в своих планах: «Наверное, вижу себя не в Москве, а в каком-то другом городе… в каком-то европейском» (женщина, 3 курс), «Хочу иметь возможность путешествовать» (женщина, 2 курс), «Я бы хотела иметь свой бизнес», «Конец своей жизни прожить не в России, то есть это будет либо теплый Таиланд, либо что-то холодное типа Норвегии, Исландии», «Чтобы меня абсолютно никто не трогал», «Хотелось бы отдохнуть от всех» (мужчина, 3 курс), «Машина выше Opel Astra… стоимостью примерно с Camry, своя квартира и какой-нибудь хотя бы один актив… какое-нибудь коммерческое помещение или дополнительное жилое помещение» (мужчина, 4 курс).
Для этой группы информантов характерны следующие черты: власть в семье распределена в соответствие с матриархальным и эгалитарным типами; стиль воспитания ребенка (информанта) – детоцентричный; высокий уровень материального обеспечения, наличие в родном городе нескольких объектов недвижимости, престижных транспортных средств, других активов. Наблюдается наличие социального капитала в планируемой сфере реализации. Отмечается склонность информантов к гармоничному сочетанию самообразования, получения опыта и высшего образования. В основном данный тип характеризуется средней степенью уверенности в себе и адаптивности, однако встречается и высокая. В контексте интерпретации системы социальной мобильности респондентами отмечается неравенство возможностей, а также превалирование личных качеств как основного фактора социальной мобильности при указании множественных объективных барьеров.
(женщина, 2 курс). В контексте семейной социализации прослеживается склонность к авторитарному типу семьи. Низкий уровень материального положения, занятость родителей в найме. Культурный капитал выражается только в получении высшего образования. Склонность к психологической неуверенности в себе и неумение адаптироваться. Характерно пессимистическое видение системы социальной мобильности. Естественная установка не выражена.
Помимо выделения и эмпирического описания типов в рамках исследования нами также были определены барьеры социальной мобильности, существующие в современной России. Ключевым недостатком этой системы является неравенство возможностей. Именно этот барьер в том или ином контексте затрагивает подавляющее большинство информантов. При этом студенты по-разному интерпретируют следствия данной проблемы. В связи с этим целесообразно выделить и описать субкатегории данной проблемы:
-
1. Региональная дифференциация: «Людям из регионов труднее пробиться, разбогатеть, занять какие-то высокие должности. У людей из центральных городов, как Москва, Питер, у них, конечно, больше возможностей» (женщина, 3 курс), «Если человек родился в какой-то там условно глухой деревне или посёлке городского типа, ... то у него, скажем так, усложняется процесс социальной мобильности вертикальной» (женщина, 4 курс).
-
2. Превалирование социальных связей как фактора мобильности над компетенциями и уровнем знаний: «Если у тебя нет денег и связей в мире, в жизни, то, возможно, ничего не получится» (женщина, 4 курс), «Я считаю, что на самом деле связи, как это ни прискорбно признавать, играют очень большую роль» (мужчина, 3 курс).
-
3. Чрезмерная роль материального положения семьи как фактора мобильности: «Если у тебя уже имеется какой-либо стартовый материальный капитал, тебе гораздо проще его приумножать, нежели, когда у тебя его в целом нет» (мужчина, 4 курс), «Человек, родившийся в богатой семье, условно, может всё потерять. Точно так же, как и человек, родившийся в бедной семье, в каком-то регионе неблагополучном - вырваться, уехать, на последние какие-то копейки. Это, конечно, истории такие, типа, ошибка выжившего, грубо говоря» (женщина, 4 курс), «Большую роль играет в этом изначальное положение тебя и той семьи, в которой ты родился» (женщина, 3 курс).
-
4. Ограниченный доступ к качественному образованию как барьер мобильности: «Если ты не можешь попасть в хороший вуз, потому что там всё платное или нужны репетиторы, которых не потянуть, то как ты вообще куда-то пробьёшься. Образование - это база, а она у нас не для всех равная» (мужчина, 4 курс), «В моём родном городе нормального вуза, которого бы диплом котировался, даже нет, а про работу вообще молчу. Все, кто чего-то добился, либо уехали в Москву, либо у них родители помогли с поступлением» (женщина, 4 курс).
-
5. Низкая эффективность социальных лифтов из-за бюрократии и коррупции: «У нас всё через знакомых или через деньги решается. Хочешь хорошую работу или должность - плати или ищи, кто за тебя замолвит слово. Без этого система тебя просто не пропустит» (женщина, 2 курс), «Я знаю ребят, которые реально умные, стараются, а их не берут, потому что нет связей или не занёс, кому надо. У нас лифты есть, но они только для своих» (женщина, 4 курс).
Для преодоления барьеров социальной мобильности университеты могут внедрить комплекс мер, направленных на устранение структурных и экономических ограничений. Региональную дифференциацию предлагается смягчить через инклюзивные программы, включающие целевые стипендии, льготное жилье и доступ к цифровым образовательным ресурсам, а также партнерства с региональными работодателями для организации стажировок. Чтобы снизить зависимость мобильности от социальных связей, вузы должны развивать у обучающихся навыки самопрезентации и личного брендинга, создавать менторские программы и цифровые платформы для нетворкинга, связывающие студентов с профессиональным сообществом. Финансовые барьеры, обусловленные материальным положением семей, можно преодолеть путем расширения стипендиальных программ, грантов и партнерств с компаниями, финансирующими обучение в обмен на трудоустройство, а также предоставления бесплатных курсов по востребованным компетенциям. Для повышения качества образования вузы могут привлекать практиков из индустрии и внедрять междисциплинарные программы, соответствующие рынку труда, а также поддерживать талантливых студентов грантами и конкурсами. Наконец, для борьбы с неэффективностью социальных лифтов, вызванной бюрократией и коррупцией, университеты должны обеспечить прозрачность карьерных сервисов, создавая центры карьеры с открытыми базами вакансий и публичными рейтингами работодателей, а также проводить просветительские кампании, демонстрирующие реальные примеры успешной мобильности через образование.
Заключение . В результате проведенного исследования методом глубинных интервью были выявлены и эмпирически описаны 5 типов интерпретации перспектив социальной мобильности московскими студентами, выявлена тенденция зависимости способа представления респондентами собственных перспектив от ряда факторов: уровня обеспеченности капиталами;
степени общественной проактивности; оценки системы социальной мобильности и неравенства. Помимо этого, описаны ключевые барьеры, для каждого из которых предложено соответствующее практическое решение со стороны высших учебных заведений (табл. 1).
Таблица 1 – Барьеры социальной мобильности и возможные решения для их преодоления
Table 1 – Barriers to Social Mobility and Possible Solutions for Overcoming Them
|
Барьер |
Практическое решение |
|
Региональная дифференциация |
Разработка программ инклюзии для студентов из регионов |
|
Превалирование социальных связей как фактора мобильности над компетенцией и уровнем знаний |
Преобразовать вуз в платформу, развивающую социальные навыки и предоставляющую социальный капитал |
|
Чрезмерная роль материального положения семьи как фактора мобильности |
Расширение бюджетирования учебных мест (в том числе целевого характера) и материальная поддержка студентов |
|
Ограниченный доступ к качественному образованию как барьер мобильности |
Повышение качества образования за счет привлечения преподавателей-практиков и материального поощрения |
|
Низкая эффективность социальных лифтов из-за бюрократии и коррупции |
Организация прозрачного сопровождения студента на место работы по специальности |
Основным критерием, ограничивающим применение результатов данного исследования, является то, что выявленные тенденции (зависимость способа интерпретации перспектив от указанных выше факторов) нуждаются в количественной проверке, обеспечивающий статистическую и математическую достоверность результатов исследования. Описанные барьеры также нуждаются в выявлении их распространенности.