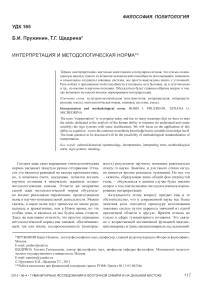Интерпретация и методологическая норма
Автор: Пружинин Борис Исаевич, Щедрина Татьяна Геннадьевна
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Философия. Политология
Статья в выпуске: 4 (24), 2013 года.
Бесплатный доступ
Термин «интерпретация» настолько многозначен и популярен сегодня, что статью, посвященную анализу одного из аспектов человеческой способности истолковывать (понимать и осмысленно создавать) знаковые системы, мы просто вынуждены начать с уточнений. Речь пойдет о приложении этой способности в познании, не в бытовом, не в эстетическом и пр., но именно в научном познании. Обсуждаться будет главным образом вопрос о том, как возможно методологическое нормирование интерпретации.
Культурно-историческая эпистемология, интерпретация, интерпретирующие тексты, методологическая норма, знаковые системы, смысл
Короткий адрес: https://sciup.org/170175420
IDR: 170175420 | УДК: 165
Текст научной статьи Интерпретация и методологическая норма
Сегодня даже само выражение «методологическая норма» вызывает зачастую резкое отторжение. Отчасти это является реакцией на весьма претенциозные, но, в конечном счете, неудачные, попытки вогнать научное познание в изначально заданные логикометодологические каноны. Отчасти же неприятие самой идеи методологической нормы обусловлено вполне реальными переменами, происходящими ныне в научно-познавательной деятельности. Можно сказать, в науке ныне идут процессы не менее радикальные и драматичные, чем в Новое время, но это особая тема, и касаться ее мы будем лишь отчасти. Здесь же нам важно отметить, что простое отрицание методологической нормы как таковой, обеспечивающей, так или иначе, воспроизводимость (повторяе- мость) результатов научного познания, равносильно отказу от науки. Заметим, и для такого отказа сегодня имеются вполне реальные основания. Но все это – сюжеты, образующие лишь общий фон затронутой темы, – обсуждаться в данном случае будет именно вопрос о том, как возможно методологическое нормирование интерпретации.
Актуальность этому вопросу придает еще и то обстоятельство, что в современной науке все более заметная роль отводится процедуре истолкования знаковых систем путем переноса значений из одной предметной области в другую. Причем отнюдь не только в сфере гуманитарного познания. Это связано с возрастающей когнитивной функцией междисциплинарных и трансдисциплинарных исследований.
При этом под давлением такого рода исследований происходят сдвиги и в теме вполне традиционной для методологического сознания науки – в теме эмпирической интерпретации. С тех пор как в господствующих ныне философско-методологических концепциях была признана принципиальная вариативность соотнесения теоретических конструкций с опытными данными, в методологической идиоме «эмпирическая интерпретация» акцент переместился на слово «интерпретация», причем зачастую с подтекстом – «произвольная».
Но даже в тех случаях, когда подтекст этот не является доминирующим, релятивизирующая роль интерпретации представляется в философско-методологической рефлексии над наукой достаточно определенно. Так что эмпирическая интерпретация лишается не только роли строгого критерия научности, но и статуса основного способа оценки предметной содержательности теоретических конструкций. При этом в качестве компенсации за эти утерянные методологические функции все чаще на переднем плане оказываются при выборе интерпретации теоретических систем не логика и доказательство, а риторика и аргументация. Соответственно, в размышлениях о научном познании, в рефлексии над наукой возрастает интерес к теории аргументации. Это, в частности, очень заметно по сдвигам проблематики в рамках аналитической философии.1 Причем и в само понимание аргументации к концу ХХ столетия все интенсивнее стали включаться, помимо традиционных тем риторики и логики, сюжеты из различных направлений психологии (от социальной до нейро-), лингвистики, когнитологии, теории искусственного интеллекта и компьютерного программирования, из опыта герменевтических, коммуникативных и правовых практик и пр. Так что в результате феномен аргументации стал приобретать черты феномена убеждения (убеждения при помощи самых разнообразных средств). И это представление о природе аргументации, о ее средствах и целях все чаще переносится сегодня на сферу рефлексии над научно-познавательной деятельностью – на трактовки средств и целей научной аргументации.
Отмеченные тенденции очень ярко проступают сегодня при обсуждении когнитивных возможностей самой процедуры интерпретации. В обширной литературе, так или иначе затрагивающей эту тему, как правило, констатируется, что интерпретация в научном познании предполагает, так сказать, блок служебных текстов, внутри и на базе которых осуществляется собственно процедура истолкования (в конечном счете истолкования опытного, эмпирического). В го- сподствующих ныне философско-методологических концепциях научного познания эти служебные, интерпретирующие тексты 2 сами истолковываются как произвольные по отношению к эмпирическим данным, как заданные внешними для собственно науки социальными и культурными контекстами. В отношении социально-гуманитарных наук такое истолкование роли интерпретирующих текстов воспринимается как само собой разумеющееся. Применительно к естествознанию это стало утверждаться сравнительно недавно.
Действительно, начиная с дискуссий об интерпретации квантовой механики, ни о каком чисто дедуктивном развертывании аргументации внутри научных теорий уже не могло быть и речи. В методологии естественной науки с тех пор стало общепризнанным, что перенос смыслов с эмпирических объектов на формальную структуру теории выполняется всегда в контексте мысленных моделей, делающих возможным этот перенос. Такие модели как раз и конструируются в «служебных» текстах (например, «Диалоги» Галилея, в которых обосновывается необходимость введения в физику инерциального движения). Однако примерно до 60-х годов прошлого столетия в рамках ведущих направлений философии науки допустимым в этих текстах считалось лишь обращение к совокупности релевантных внутринаучных представлений, а в качестве идеала рассматривалось все же рациональное развертывание рассуждений. Позднее рефлексивная ситуация стала меняться на прямо противоположную. Нам, однако, представляется, что из опыта современного естествознания можно сделать и иные методологические выводы, позволяющие иначе посмотреть и на эмпирическую интерпретацию, и на интерпретацию вообще.
Методологическое обобщение опыта квантовой механики, опыта дискуссий об интерпретации ее формального аппарата показало, что в этой области физических исследований именно построенные (сконструированные) модели обеспечивают соотнесение формального аппарата с эмпирическими объектами и измерительными ситуациями. В этом заключается суть и функция этих моделей и соответствующих служебных интерпретирующих текстов. При этом – что принципиально важно для нас – эти модели могут как бы выпадать из строгой логики развертывания теоретических конструкций, а зачастую и из здравого эмпирического опыта. В таких моделях создается как бы другая реальность, где электрон, скажем, может быть одновременно в разных местах. Причем именно эти «странные» модели и позволяют увязать физическую теорию в нечто целостное и дать ее эмпирическую интерпретации. Более того, сегодня стало очевидным, что при интерпретации любого формализма, любой математической конструкции обнаруживается невозможность развернуть логически связное концептуальное целое (соотносимое с эмпирическими реалиями) путем лишь формально-логических процедур.
Из описанной ситуации можно сделать два различных философско-методологических вывода. На один из них мы уже указывали. Сегодня обосновывающая роль подобных моделей и соответствующих служебных текстов все чаще заменяется убеждающей, допускающей аргументацию, апеллирующую к факторам, выходящим за традиционный круг «теория-опыт», что, как правило, сопрягается с идеей релятивности, иногда даже конъюнктурной произвольности такого рода убеждения. При этом собственно процедура интерпретации, соотносящей некую формальную систему и систему смыслов (в виде, скажем, эмпирически данных), как бы отделяется от интерпретативных моделей, т. е. оказывается как бы сугубо формальноинструментальной процедурой, абсолютно равнодушной к содержанию, что и открывает возможность для интерпретативного произвола. А обосновывающие использование этой процедуры служебные интерпретирующие тексты, образующие самостоятельные ментальные блоки, предстают как ментальные конструкции, имеющие свою собственную мотивацию, зачастую абсолютно внешнюю целям научного познания, по крайней мере, традиционным.
На наш взгляд, в этой методологической позиции, для которой интерпретация предстает как абсолютно произвольная процедура, мы просто имеем дело с негативной, а стало быть, содержательно зависимой реакцией на, казалось бы, давно преодоленный, но весьма устойчивый философско-методологический стереотип. Мы имеем в виду реакцию на понимание методологии как формального, по самой своей сути, нормирующего канона, который как бы налагается на познавательную деятельность вне зависимости от обстоятельств ее протекания и самим фактом наложения определяет степень ее научности. Этот стереотип уж полстолетия как ушел в прошлое, но, тем не менее, он и ныне оказывает мощное (хотя и в виде его тотального неприятия) влияние на эпистемологические размышления и рефлексию над научно-познавательной деятельностью. А в результате упомянутые выше блоки интерпретирующих текстов, вводящие смысловые модели в формальное рассуждение и, тем самым, ориентирующие приложение собственно интерпретирующих процедур, воспринимаются лишь как свидетельства условности (социальной, исторической, психологической и пр.) приложения процедур интерпретации. И в этом случае об их методологической определенности говорить не приходится.
Показательным в этом плане является распространение в сфере рефлексии над наукой аргументационных подходов, вытесняющих из этой области логико-методологическую, а, в принципе, и всякую философско-методологическую рефлексию, и соответствующий дискурс. Таковы, например, работы Латура3, Делёза и др. Как однажды заметила Н.С. Автономова, «когда-то, во времена Второй софистики философия одержала победу над риторикой, доказательство над убеждением, предметная мысль над достижением какой-то внешней цели. В современной ситуации риторика в мировой культуре взяла реванш над философией, подчинив ее объективные устремления функциональной оправданности» [1, с. 28]. Теперь риторика торжествует и в области рефлексии над знанием. Между тем аргументация, подчиненная задаче убедить, совмещает в себе все, что для этого нужно, – от психологического воздействия и суггестии до логической прагматики. Прагматический момент является в ней ведущим. И это важно, если мы рассуждаем, скажем, о политике. Но не о науке.
Даже когда речь идет об интерпретации математических формул, математический аппарат нельзя понимать только как формальное исчисление. Построение целостной концептуальной структуры выполняется всегда с обращением к «модельным» и даже «метафорически образным» конструкциям, фактически превращающим или обосновывающим превращение формальных структур в знаковые конструкции, развертывающиеся на некоторой предметно-образной области. Более того, именно эти конструкции обеспечивают возможность мысленных экспериментов и тем самым как бы ориентируют развертывание формализма. И потому в ходе исследования неизбежно возникает необходимость в такого рода «странных» конструкциях. Здесь исследование как бы выходит на уровень «надлогического» смыслового развертывания знания (что очень ярко демонстрируют «странные модели»: Демон Максвелла, Кот Шредингера и др.). И именно здесь, на наш взгляд, смыслы попадают в сферу методологического внимания. Мы этот взгляд называем культурно-исторической эпистемологией.
Мы считаем, что из описанных выше ситуаций можно сделать выводы, имеющие методологический статус. Коль скоро речь идет о научном знании, в тек- стах, обосновывающих интерпретацию, присутствует установка на рациональную внутринаучную аргументацию, т. е. на аргументацию, не выходящую за рамки соотнесения теории и опыта, эмпирического и теоретического содержания знания. Целью интерпретирующих служебных текстов является здесь не уговорить любыми средствами, а обосновать эффективность данной интерпретации внутри круга прозрачных рациональных теоретико-эмпирических доводов.
Заметим, кстати, именно в отечественной методологии (заслуга В.А. Смирнова и В.С. Степина) корпус интерпретирующих текстов и конструкций, обеспечивающих саму возможность отображения (интерпретации) абстрактных моделей на эмпирическую реальность, стал предметом специального философско-методологического анализа. В центре этого анализа рассматривалась их познавательная роль, их суть как познавательных текстов. Учитывать это обстоятельство для понимания роли интерпретирующих текстов в формировании знания очень важно, ибо простая констатация и простой перенос внимания на эти структуры без прояснения их когнитивных целей и функций ведет к релятивизации, к простому сведению научного исследования к произвольной интерпретации, к конструтивистской трактовке знания.
Представленная нами выше культурноисторическая трактовка интерпретации в естествознании описывает процессы, происходящие сегодня в самых различных областях научного знания, что позволяет нам поставить вопрос о когнитивной роли интерпретации в гуманитарных науках. И в гуманитарной научной сфере на передний план выходит вопрос об оценке познавательного значения интерпретирующих текстов, их когнитивной роли. В научном познании именно в этих текстах учитываются цели познания, и уже в контексте этих целей (ценностных установок на познание мира) интерпретация в узком смысле (т. е. собственно процедура переноса смыслов) реализует саму возможность такого переноса смыслов из одной предметной области в другую, который обеспечивает построение знания.
Шпет различал пассивную (авторитарную) интерпретацию, «осведомляющую нас о чужом понимании», и активную (или диалектическую) интерпретацию, «исходящую из наших собственных логических задач и целей» [5, с. 721]. Он различал контексты, ориентирующие задачи интерпретации, выделяя научный (логический) контекст, методологический, поэтический и пр. Причем контексты у него закрепляются культурно-исторически и направляют смысловую деятельность экзистенциально. В науке культурная, а стало быть, экзистенциальная цель ученого – общезначимость (т. е. воспроизводимость) выражения представлений о мире в языке (создание единой логически связной системы значений, охватывающей всю сферу опыта). Этой цели подчинена символически-знаковая активность субъекта познания, она направляет его познавательную интуицию, направляет его интерпретации, заставляя его подниматься над логикой, точнее – допускать такие смысловые конструкции, которые трудно даже вообразить, но которые спасают логическую целостность теоретических структур, ориентированных на воспроизводимость эмпирических оснований знания. Иными словами, в поле зрения методологии попадает уровень научно-познавательной деятельности, где ученый работает со смыслами, – переносит и трансформирует их, где он не столько логически доказывает, сколько воображает и убеждает. И все это (в науке) ради спасения логически связной системы, которая получает эмпирическую интерпретацию, т. е. соответствует опыту и в опыте воспроизводит- ся. И работа эта оказывается тогда в центре внимания методологии. У Шпета методология – опыт прояснения, т. е. установления смыслов для других. В ходе научной работы для интерпретации неких формальных структур, претендующих на роль знаковых, превращающих в знаки некие в опыте данные объекты, осуществляется приписывание смыслов (значений), и эмпирическая интерпретация системы позволяет оценить ее когнитивную эффективность. Методология фиксирует (обобщает) опыт этой деятельности в пространстве между контекстом открытия и контекстом обоснования. И здесь определенность работы со смыслами удерживает стиль научного мышления4.
Однако речь здесь может идти не о норме отсутствия нормы, а о выработке этой нормы под определенные культурные цели и установки, о чем Шпет и писал. В данном случае речь может идти о сфере напряженной работы, нацеленной на выработку нормы, выработку такого соответствия, которое делает возможным воспроизводимость знания.
Список литературы Интерпретация и методологическая норма
- Автономова Н.С. Заметки о философском языке: традиции, проблемы,перспективы//Вопросы философии. 1999. № 11. С. 28.
- Ким Л.Г. Вариативно-интерпретационное функционирование текста. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: URSS, 2013.
- Латур Б. Научные объекты и правовая объективность/перевод с англ. Д. Аронсон, В. Долгоруков, Я. Закорко//Герменея. Журнал философских переводов. 2010. № 1 (2). С. 78-120.
- Методология психологии/общ ред. В.П. Зинченко, науч. ред. Т.Г. Щедрина. СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2012.
- Шпет Г.Г. История как проблема логики. Критические и методологические исследовании: материалы в 2 ч. М.: Памятники исторической мысли, 2002. С. 721.
- Ямпольская А.В. Аффективность как историческое измерение субъекта//Вопросы философии. 2013. № 3. С. 155-164.