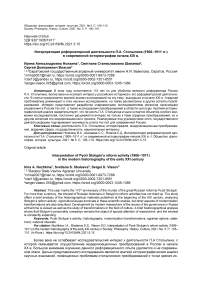Интерпретация реформаторской деятельности П.А. Столыпина (1906-1911 гг.) в современной историографии начала ХХ1 в
Автор: Ножкина И.А., Шалаева С.С., Власов С.Д.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 5, 2021 года.
Бесплатный доступ
В этом году исполняется 110 лет со дня убийства великого реформатора России П.А. Столыпина. Более века не иссякает интерес у российских историков к его реформаторской деятельности. В статье предлагается краткий анализ исследований на эту тему, вышедших в начале ХХ! в. Аграрная проблематика доминирует в этих научных исследованиях, но также рассмотрены и другие аспекты преобразований. Интерес представляет разработка современными исследователями вопросов организации управления в России тех лет, а также исследования преобразований в области культуры. Краткий историографический анализ свидетельствует, что личность П.А. Столыпина и ныне остается объектом особого внимания исследователей, постоянно расширяется интерес не только к теме аграрных преобразований, но и другим аспектам его модернизационного проекта. Реализуемые под руководством этого государственного деятеля реформы подчеркивают значимость опыта тех лет для современной России.
Деятельность п.а. столыпина, историография, модернизационные преобразования, аграрная сфера, государственность, национальные интересы
Короткий адрес: https://sciup.org/149134943
IDR: 149134943 | УДК: 930“1906/1911” | DOI: 10.24158/fik.2021.5.15
Текст научной статьи Интерпретация реформаторской деятельности П.А. Столыпина (1906-1911 гг.) в современной историографии начала ХХ1 в
Более века не ослабевает исследовательский интерес к деятельности П.А Столыпина, с которой связывается осуществление модернизационных преобразований в России в начале ХХ в. Большое внимание изучению данного реформационного опыта уделяется и на современном этапе. Целью представленного исследования является краткий историографический анализ научных изысканий, посвященных проблемам столыпинских преобразований с точки зрения ис- торической науки начала ХХI в., что позволит лучше понять современную политико-реформаторскую деятельность, смоделировать различные варианты ее развития, учесть исторический опыт в принятии новых политических решений.
Как и в прежние времена, однозначного мнения о реформах Столыпина и их результативности нет и ныне. Преодолено в основном бытовавшее в советской историографии определение этого периода истории как «столыпинщины», а на смену образу Столыпина-реакционера и «вешателя» пришло восприятие его как умного, образованного, волевого государственного деятеля, предлагавшего масштабную программу изменения страны, рассчитанную на длительный период.
При анализе историографических работ авторами применялся проблемно-хронологический метод, позволяющий осветить вопросы реформ в их взаимосвязи, и историко-сравнительный метод, рассматривающий весь спектр мнений историков.
В начале 2000-х гг. появились издания, в которых на базе новых информационных возможностей вновь анализируется столыпинский реформационный замысел. В числе работ этого времени следует выделить монографию Г. Шмелева, посвященную в целом аграрной проблематике вековой протяженности. Начинается его исследование с реформ Столыпина как широкой системы взаимосвязанных экономических, социальных, производственно-технических мер, направленных на качественное преобразование не только аграрного, но и всего строя жизни тогдашней России [1]. Такой подход характерен для многих других работ, пополняющих современную историографию столыпинского реформирования. К примеру, в работе Н. Рогалиной также подчеркивается, что столыпинские аграрные реформы носили системный народнохозяйственный характер [2, с. 130].
Большой вклад в историографию данных вопросов вносит исследовательская деятельность созданного в 2001 г. Фонда изучения наследия П.А. Столыпина, усилиями которого включены в научный оборот новые документальные материалы [3]. Источниковую базу столыпинского реформирования пополнила работа сотрудников Государственного исторического архива, которые подготовили к переизданию стенографические отчеты Государственной Думы и Государственного Совета, а также выступления П.А. Столыпина на заседаниях второй и третьей Государственной Думы. Публикуемые документы, как отмечают исследователи, сопровождаются научными комментариями, способствующими более объективному уяснению опыта и уроков столыпинских реформ. В послесловии этой публикации П.А. Столыпин характеризуется как архитектор новой России, подчеркивается актуальность его управленческого опыта для современных преобразований в стране [4].
Интерес к личности П.А. Столыпина как государственного деятеля проявляется в исследовании Л.И. Новиковой, в котором анализируется налаженное реформатором сотрудничество самодержавной власти и Думы, наделенной законодательными полномочиями. Несмотря на непреодоленные и ныне идеологические стереотипы в оценках П.А. Столыпина на посту премьер-министра, автор считает, что Столыпин явил собой новый тип политика, заслуга которого состоит в том, что он приучил русскую общественность к думскому, парламентскому стилю государственного управления [5, с. 69].
Историографию деятельности П.А. Столыпина пополнили работы, вышедшие в контексте подготовки к его 140-летнему юбилею, широко отмечавшемуся в 2002 г. В ряду изданий этого времени следует выделить труд Г.П. Сидоровнина, в котором основное внимание уделяется родословной реформатора, его детству, жизни в собственной семье. Как подчеркивают критики, в данном издании ощущается стремление автора представить Столыпина чуть ли не политическим ангелом, практически умалчиваются репрессии, предпринимаемые реформатором против противников царского строя. В книге отмечается, что процесс реформирования, особенно в аграрной сфере, был результативным [6, с. 186].
Однако в современной историографии нами выявлены и другие оценки реформационного процесса. В числе рассуждений этой направленности встречаются категоричные утверждения о незавершенности реформ, но есть и более умеренные оценки: реформы не провалились, но и о полном их успехе говорить не приходится [7, с. 135]. Эти положения разделяют и авторы данной статьи. В числе факторов, тормозящих реформационные процессы, выделяются: недостаточное финансово-материальное их обеспечение, сложности социально-политической обстановки тех лет, негативное отношение к реформам практически всех политических сил.
Следует подчеркнуть, что реформы в аграрной сфере остаются центральной темой научного анализа. Попытка анализа данной проблематики предпринимается, к примеру, в работе С. Ковалева и Ю. Латова, где рассматриваются взаимоотношения между помещиками и крестьянами с точки зрения эффективности их хозяйствования [8, с. 102]. Так, авторы подчеркивают, что к началу ХХ в. удельный вес помещичьих имений в поставке хлеба на рынок значительно сократился, тем не менее в руках помещиков оставалась еще значительная часть земельных владений. Развитие помещичьих хозяйств стимулировали благоприятная рыночная конъюнктура, продолжающийся рост цен на продовольствие. Эти хозяйства превосходили крестьянские по уровню технического развития, благодаря чему приобретали характер крупного капиталистического производства. Однако данные процессы по-разному воспринимались политическими партиями, деятельность которых в этот период заметно активизировалась. В работе рассматриваются подходы либералов и социал-демократов к решению аграрного вопроса, вместе с тем отмечается, что взгляды политических сил консервативной направленности остаются за рамками современных научных исследований. Авторы критически переоценивают встречающиеся в современной литературе утверждения о том, что дворянское землевладение является пережитком доиндустриальной эпохи, тормозившим развитие капитализма в России.
Аграрная проблематика рассматривается также в работах В.Г. Тюкавкина, В.П. Данилова, А.М. Анфимова, расширяющих понимание условий проведения реформ, представления об уровне буржуазного развития крестьянских хозяйств, о роли крестьянского движения в решении аграрного вопроса [9]. К примеру, в работе А.М. Анфимова отмечается, что крестьянское движение стимулировало помещиков на реализацию их земель, что этому способствовала также деятельность Крестьянского банка, выпускавшего ценные бумаги, тем самым позволяя помещикам выгодно продавать свои земли. В работе утверждается и то, что П.А. Столыпин не был против коллективной земельной собственности, не отрицал необходимость ее сохранения там, где она имела крепкие корни. Между тем автор утверждает, что не все даже зажиточные крестьяне стремились к выходу из общины, так как этот выход вызывал массу вопросов – как быть с угодьями общего пользования, с долгами общины. Многим крестьянам коллективное пользование выгонами, пастбищами давало больше преимуществ. Даже крестьяне, пущенные в самостоятельное экономическое плавание, не окончательно отрывались от общины. Автор издания также возражает против воззрений о достижении прогресса в ходе реформирования, так как признаков интенсификации в деятельности и фермеров, и кулаков не наблюдалось [10, с. 189].
Аграрная проблематика оставалась доминирующим сюжетом исследований, приуроченных к столетию начала реализации аграрной реформы П.А. Столыпина. Например, в публикации А.И. Пиреева исследуются факторы устойчивости крестьянской общины в условиях аграрных отношений начала ХХ в. Вопреки устоявшемуся мнению об объективной необходимости ликвидации общины в силу ее экономической неэффективности, она выстояла. По мнению автора, в числе факторов, обеспечивших устойчивость общинных порядков, определяющим оставался недостаток финансирования реформы. В этих условиях административное давление на общину с целью форсирования процессов разложения общины напротив способствовало ее консолидации как института социальной защиты от неизбежных рисков самостоятельного хозяйствования. Автор подчеркивает, что предложенный правительством вариант аграрных преобразований порождал ограничители, сужавшие потенциал реформы и порождавшие ее пределы. Не показав безусловных преимуществ, реформа сулила лишь смутные перспективы, что удерживало значительную часть крестьян в лоне общины [11, c. 81].
Историографию модернизационных процессов в дореволюционной России пополнили работы, вышедшие к 150-летию реформ 1860–1870-х гг., положивших начало капиталистической перестройке образа жизни общества тех лет. В публикациях отмечается, что в пореформенной России существенно усилился торговый характер сельскохозяйственного производства, что аграрный сектор способствовал расширению продовольственного рынка [12, c. 45]. По мнению авторов, таким ходом российских преобразований была предопределена и реформаторская деятельность П.А. Столыпина [13, c. 159].
Популяризацию личности П.А. Столыпина усилила также подготовка к 150-летию со дня его рождения. Так, в центре Москвы в 2012 г. ему был установлен памятник. Несколько ранее постановлением Правительства РФ была учреждена «Медаль П.А. Столыпина» 2-х степеней как награда за заслуги в решении задач социально-экономического развития страны. В журнале «Российская история» была опубликована целая серия статей, в которых, наряду с доминирующим сюжетом об аграрном реформировании, представлены и многие другие аспекты столыпинской модернизации. Так, в статье А.Н. Медушевского поднимается вопрос о степени состоятельности столыпинской концепции, границах ее применимости в современных условиях. Автор отмечает, что ставка Столыпина на эволюционный вариант развития являлась прагматическим ответом на дестабилизацию общественной жизни, вызванную революцией 1905 г. Концепция преодоления революции выступала и способом защиты страны от ее спонтанного разрушения. Однако проведение рыночных реформ неизбежно влекло за собой расслоение общества, что создавало основу для недовольства существующими порядками, вело к социальной агрессии, террору. В связи с этим весьма спорным элементом в концепции реформатора выступает применение внесудебных преследований, репрессивных мер к оппозиционно настроенным силам общества. По мнению автора, реформационный процесс тормозили не только внутренние и внешние факторы, но и расхождение между позитивным правом и уравнительно-распределительной психологией крестьянских масс. Именно поэтому правительственный курс на укрепление частнособственнических отношений неадекватно воспринимался большинством населения [14, c. 4].
Комплексный анализ модернизационного проекта П.А. Столыпина проводится в статье В.В. Шелохаева. Автором исследуются мировоззренческие ориентации реформатора, уясняется его понимание природы и функций российской государственности. В статье подчеркивается, что П.А. Столыпин, отстаивая принципы монархизма, стоял на защите основ этого властного института, выражающего общенациональные интересы. В статье приводится мнение реформатора о том, что России, в отличие от европейских государств, предстоит длительный период вживления в национальную ткань идей конституционного режима, что сохранение вертикали власти не только обеспечивает порядок, но и оберегает страну от распада, в связи с чем для России именно государственность является высшей ценностью. В статье рассматриваются и такие содержательные аспекты перемен тех лет как преодоление гражданской и правовой неполноценности сельчан, урегулирование отношений конфессионального и межнационального характера, создание единого правового пространства, совершенствование судопроизводства, реформирование налоговой системы, образования, культуры, органов местного управления. Также отмечается, что в период реформ было введено всеобщее начальное образование, стремительно изменялся облик городов и поселков. В городах появились трамваи, уличное освещение, развивалась телефонная сеть, активно велось строительство домов, театров, закладывались парки, открывались памятники, стал работать кинематограф. По мнению автора, столыпинский тип модернизации соответствовал государственным и общенациональным интересам и счет, предъявляемый П.А. Столыпину за подготовку основы для революции и развала империи, является несостоятельным [15, c. 20].
Аналогичный подход к оценке реформационных процессов отражен в статье Н.И. Канищевой, в целом посвященной исследованию преобразований в области культуры. В данной работе особо подчеркивается, что перемены именно в этой сфере выступали необходимым условием модернизации тех лет, рычагом в реализации масштабной перестройки всего строя жизни Российской империи [16, c. 139].
Следует отметить, что в этой серии публикаций большое внимание уделяется исследованию и такого менее разработанного сюжета как опыт налаживания П.А. Столыпиным контактов с представительными учреждениями. Авторы отмечают, что реформатор считал их деятельность неопасной для спокойствия страны. Более того, правительство готово было идти на уступки требованиям думских фракций, хотя это было сложно осуществлять в среде крайне неустойчивого думского большинства. Консолидационное мнение не удавалось выработать и внутри самой Думы, что негативно отражалось на процессах законотворчества. Тормозили реформы также консервативные настроения в среде правительственной бюрократии, не готовой признавать общественно-политические силы зрелыми. Поэтому законы зачастую оставались на бумаге, высшая администрация их практически игнорировала [17].
Не меньший интерес представляет разработка современными исследователями вопросов об организации управления в России тех лет, являвшейся полиэтническим и поликонфессио-нальным государством. По мнению авторов, для П.А. Столыпина главным выступало сохранение нитей, скреплявших центр с окраинами империи. Решая эту задачу, правительство шло по пути расширения административных и культурных связей центра и периферии. Однако это вызывало недовольство местных элит, так как снижало их самостоятельность. Унификация управления окраинами вызвала волнения в Финляндии, Польше, а в Туркестане и на Кавказе пришлось ликвидировать особое положение и восстановить наместничество. Вопреки политическим силам, предполагающим возможность федерализации страны, П.А. Столыпин оставался сторонником сохранения единой и неделимой России и считал делом отдаленного будущего преобразования административно-территориального ее устройства.
В условиях расширения границ веротерпимости потенциальную угрозу целостности страны создавала деятельность радикально настроенных представителей мусульманского населения, активизировавшихся после революции в Иране. В целях пресечения данной опасности правительство П.А. Столыпина уделяло большое внимание разработке политики по отношению к российским мусульманам. В числе мер, предпринимаемых в тот период, были укрепление русского просвещения, а также поддержка сближения народов страны на почве любви к Отечеству. Стало больше внимания уделяться осуществлению востоковедческих исследований. Так, с 1912 г. стал выходить журнал «Мир ислама» под редакцией В.В. Бартольда [18, с. 122].
Процессу консолидации народов страны, в том числе мусульманского населения, способствовало расширение доступа «инородцев» в Государственную Думу. Опыт данной практики рассматривается в работе, исследующей депутатский состав этого собрания первого и второго созыва. В статье подчеркивается, что в Думе были депутаты из числа татар, киргизов, казахов, узбеков, многие из которых оканчивали вузы империи, обладали хорошими знаниями адата и шариата [19, с. 88].
В современной историографии столыпинских реформ нарастает интерес к методам их реализации. В этом контексте следует выделить статью В.Д. Зотова, в которой структурные преобразования П.А. Столыпина рассматриваются с точки зрения их применимости в современной России [20].
Интерес к данной тематике проявляли и зарубежные исследователи: Джордж Яни, преподаватель Университета Мэриленд, специалист по аграрной реформе Столыпина [21], профессор Нью-Йоркского университета А. Ашер [22] и др.
Анализ исследований англоязычных историков о деятельности П.А. Столыпина приводит О.В. Большакова: «Интерес англоязычных историков к столыпинским реформам традиционно фокусировался на их экономических, юридических и административных результатах» [23, с. 165]. Автор статьи приходит к выводу о том, что «историки трактовали столыпинские реформы как конфликт либералов и реакционеров, модернизаторов и традиционалистов, наконец, буржуазных и феодальных ценностей» [24, с. 165].
Таким образом, даже краткий историографический анализ свидетельствует о том, что личность П.А. Столыпина и ныне остается объектом особого внимания исследователей, постоянно расширяется интерес не только к доминирующей теме в деятельности реформатора – аграрным преобразованиям, но и к другим аспектам его модернизационного проекта. Современные историки проявляют повышенный интерес и к многогранной государственной, и к реформаторской деятельности Столыпина. На наш взгляд, главным в столыпинской модернизации страны были переход от традиционного к гражданскому обществу, желание сформировать класс мелких и средних собственников, и укрепление частной собственности, которая и будет являться их опорой.
Безусловно, в исследуемый период выходило большое количество работ, отражающих опыт реализации реформ в региональном масштабе. В объеме данной статьи затруднительно осуществить полный анализ их содержательного наполнения, но эта проблематика может стать основой самостоятельного рассмотрения.
Список литературы Интерпретация реформаторской деятельности П.А. Столыпина (1906-1911 гг.) в современной историографии начала ХХ1 в
- Шмелев Г. Аграрная политика и аграрные отношения в России в ХХ веке. М., 2000. 254 с.
- Рогалина Н. Аграрные реформы в России 1910-1920-х годов // Вопросы экономики. 2001. № 8. С. 130.
- П.А. Столыпин: библиографический указатель. М., 2002. 173 с.; П.А. Столыпин. Программы реформ. Документы и материалы. Т. 1-2. М., 2002-2003. 763 с.
- Сперанский А.Д. Рец. на кн.: П.А. Столыпин. Программы реформ. Документы и материалы. В 2 Т. М., 2003 // Вопросы истории. 2003. № 12. С. 158-160.
- Новикова Л.И. П.А. Столыпин как государственный деятель // Политические исследования. 2001. № 4. С. 60-70.
- Тютюкин С.В. (рецензия) Г.П. Сидоровнин. П.А. Столыпин. Жизнь за Отечество. Жизнеописание (1982-1911) // Отечественная история. 2003. № 4. С. 184-187.
- Коробейников М. Реформирование земельных отношений в России // Вопросы экономики. 2001. № 3. С. 135; Тютюкин С.В. Указ соч.
- Ковалев С., Латов Ю. «Аграрный вопрос» в России на рубеже Х1Х-ХХ вв.: попытка институционального анализа // Вопросы экономики. 2000. № 4. С. 102-118.
- Тюкавкин В.Г. Великорусский крестьянин и столыпинская аграрная реформа. М., 2001. 304 с.; Данилов В.П. Аграрные реформы и аграрные революции в России (1861-2001) / Россия в ХХ в. Реформы и революции. Т. 1. М., 2001; Ан-фимов А.М. П.А. Столыпин и российское крестьянство. М., 2002. 304 с.
- Ратушняк В.Н. (рецензия) А.М. Анфимов. П.А. Столыпин и российское крестьянство // Отечественная история. 2003. № 4. С. 187-190.
- Пиреев А.И. Крестьянская община в условиях столыпинской аграрной реформы: факторы устойчивости // Политические и социокультурные аспекты современного гуманитарного знания. Выпуск 2. Саратов. 2006. С. 81-82.
- Корелин А.П. Аграрный сектор в народнохозяйственной системе пореформенной России (1861-1914 гг.) // Российская история. 2011. № 1. С. 42-55.
- Рогалина Н.Л. Столыпинская аграрная реформа: современная историографическая ситуация // Российская история. 2012. № 2. С. 157-164.
- Медушевский А.Н. Как выйти из революции: стратегия преодоления социального кризиса в обществах переходного типа // Российская история. 2012. № 2. С. 3-18.
- Шелохаев В.В. Столыпинский тип модернизации России // Российская история. 2012. № 2. С. 18а-36.
- Канищева Н.И. Столыпинская реформа в области образования, культуры, науки // Российская история. 2012. № 2. С. 139-146.
- Соловьев К.А. Законотворческий процесс и представительный строй в 1906-1911 годах // Российская история. 2012. 2. С. 37-51; Демин В.А. П.А. Столыпин и законодательные палаты // Российская история. 2012. № 2. С. 52-62; Омельянчук И.В. Правые партии и П.А. Столыпин // Российская история. 2012. № 2. С. 62а-76; Гайда Ф.А. Эволюция внутриполитического курса П.А. Столыпина и думское большинство в 1910-1911 годах // Российская история. 2012. № 2. С. 76а-90; Туманова А.С. «Отечество наше должно превратиться в государство правовое»: кабинет П.А. Столыпина и разработка закона о свободе союзов // Российская история. 2012. № 2. С. 126а-138; Селезнев Ф.А. О переговорах П.А. Столыпина с кадетами в апреле-июне 1907 года // Вопросы истории. 2002. № 12. С. 167-168; Степанов С.А. Сторонники самодержавия в условиях парламентаризма // Российская история. 2014. № 3. С. 173-179.
- Бахтурина А.Ю. П.А. Столыпин и управление окраинами российской империи // Российская история. 2012. № 2. С. 108а-120; Арапов Д.Ю. П.А. Столыпин и ислам // Российская история. 2012. № 2. С. 121-126.
- Янченко Д. Г., Андреев А.А., Шорохов В.А. Выборы депутатов-инородцев от Средней Азии в Первую и Вторую Думы // Клио. 2017. № 12. С. 83-96.
- Зотов В.Д. Петр Столыпин и его идейно-политическое наследие в современной России // Социально-гуманитарные знания. 2014. № 3. С. 219-232.
- Yaney G. L. The Urge to Mobilize: Agrarian Reform in Russia, 1861-1930. Urbana, Chicago, and London, 1982. 599 p.
- Ascher A. P.A. Stolypin: The Search for Stability in Late Imperial Russia. Stanford, California, 2001. 468 p.
- Большакова О.В. Аграрные реформы П.А. Столыпина в современной англоязычной историографии // Российская история. 2012. № 2. С. 164a-172.
- Там же. С. 165.