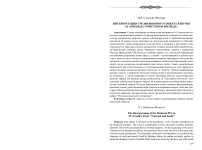Интерпретация средневекового сюжета в поэме М. Арнольда "Тристрам и Изольда"
Автор: Соколова Наталья Игоревна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Зарубежные литературы
Статья в выпуске: 4 (59), 2021 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена особенностям восприятия М. Арнольдом известного средневекового романа. По форме произведение отличается сложностью, в поэму включаются элементы драмы, события предстают в обратной последовательности. В начале поэмы Тристрам на смертном одре вспоминает о событиях своей юности, герой одновременно сосуществует в прошлом и настоящем. Оригинальность в трактовке сюжета проявляется в образе нежной заботливой Изольды Бретонской, которую автор откровенно предпочитает гордой и надменной Изольде Ирландской. Обе Изольды любимы героем, но с Изольдой Ирландской его связывает разрушительная страсть, с женой - одухотворенное и нежное чувство, у них есть дети. Поэма не заканчивается смертью Тристрама и Изольды Ирландской, в заключительной части рассказывается об Изольде Бретонской, после смерти мужа полностью посвятившей свою жизнь детям. Смысл произведения проясняется при сопоставлении со стихотворениями Арнольда о двух периодах в жизни человека, названных автором “юностью” и “покоем”. Юности свойственны пылкие страсти, с возрастом наступает период покоя и воспоминаний о волнениях молодости. С этими периодами в жизни Тристрама связаны два контрастных женских образа. Но позиция автора двойственна. В “Тристраме и Изольде” поэт осуждает губительные бурные страсти, но и монотонная спокойная жизнь кажется ему подобной смерти. Изольда Бретонская в поэме отвечает викторианскому женскому идеалу, она в большей мере относится ко времени автора, тогда как Тристрам и Изольда Ирландская принадлежат прошлому, воплощая представление о кельтском характере, который позже станет предметом исследования Арнольда в работе “Изучение кельтской литературы”.
М. арнольд, поэма, сюжет, средневековье, юность, покой, кельтский характер
Короткий адрес: https://sciup.org/149139052
IDR: 149139052 | DOI: 10.54770/20729316_2021_4_339
Текст научной статьи Интерпретация средневекового сюжета в поэме М. Арнольда "Тристрам и Изольда"
Поэма M. Арнольда «Тристрам и Изольда» впервые была опубликована в 1852 г, в период, отмеченный пристальным интересом к национальному прошлому, растущей популярностью произведений средневековой литературы и фольклора и появлением их многочисленных интерпретаций в викторианской литературе. Нельзя сказать, что Арнольд относился к сторонникам “medieval revival”, стремившимся к возрождению прошлого как эпохи искренней веры и гармонического единства человека с обществом и вселенной. «Я в полной мере осознаю абсурдность этого периода и совершенное безумие тех, кто воспринимает его всерьез и забавляется игрой в его воссоздание; однако я нахожу в нем величайшее поэтическое обаяние и живительную силу», - писал он сестре, признаваясь, что обнаруживает в Средних веках «нечто магическое» [Arnold 1895, 127].
Как и многих его современников, магия Средневековья побуждает поэта обратиться к старинному сюжету. В письме к А.Х. Клафу Арнольд в качестве источника поэмы указал публикацию в “Revue de Paris” (имея в виду краткий пересказ легенды в статье Теодора де ла Вилльмарке «Валлийские поэмы и романы Круглого стола» (1841), позже вошедшей в его книгу «Романы Круглого стола и сказки древних бретонцев» (I860); историю Мерлина он почерпнул из «Смерти Артура» Мэлори [Arnold 1968, 135]. В сборнике 1857 г. Арнольд предпочел французский вариант имени героя, назвав поэму “Тристан и Изольда”, однако в более поздних публикациях, начиная с 1869 г, вернулся к первоначальной версии.
В качестве своеобразной прелюдии к поэме исследователи (Д .Р. Стэндж [Stange 1978, 219-220], А.Д. Куллер [Culler 1966, 143]) называют опубликованное в тот же период стихотворение “Lines Written by a Death-bed” («Строки, написанные у смертного ложа»), героиня которого, скорбно склонившись над ложем умирающего возлюбленного, терзается ревностью, думая о красоте юной соперницы, “Her youngest rival’s freshest grace”[Arnold 1995, 198]. В финале стихотворения поэт рассуждает о юности, озаренной солнечным светом, с ее восприимчивостью, животворящей
силой, о молодости, которая на пороге смерти кажется счастьем. Позже, в 1867 г. этот заключительный фрагмент был опубликован отдельно под названием “Youth and Calm” («Юность и покой»), образуя своего рода диптих со стихотворением “Growing Old” («Становясь старым»). Юность и покой в восприятии поэта - этапы человеческого бытия. Цветущая юность с ее полнотой жизни недолговечна, золотые дни уходят с заревом заката. Становиться старым - значит проводить долгие дни в воспоминаниях о молодости, месяц за месяцем с горестью проживать в заточении в душной тюрьме настоящего:
It is to spend long days
And not once feel that we were ever young.
It is to add, immured
In the hot prison of the present, month
To month with weary pain [Arnold 1995, 409].
Авторская концепция юности и покоя получает развернутое воплощение в поэме «Тристрам и Изольда». По форме произведение отличается сложностью, повествование носит фрагментарный характер. Авторская речь перемежается монологами и диалогами, которым, как в драме, предшествуют имена героев. Возможно, желание включить в поэму элементы драмы возникло у Арнольда под влиянием статьи Т. де ла Вилльмарке, который приводит отрывок из сочинения безымянного трубадура, содержащий диалог Тристана с двумя рыцарями [La Villemarque I860, 70-72]. Арнольд сам осознавал, что поэма при чтении может вызвать затруднение, и в письме к А.Х. Клафу заявлял о своем намерении в новых публикациях сделать ее более понятной, прося друга помочь ему отметить места, которые следует исправить, находя при этом свое произведение в целом «без сомнения, совершенно успешным» [Arnold 1968, 135].
Поэма состоит из трех частей, названных именами героев: «Тристан», «Изольда Ирландская», «Изольда Бретонская». Арнольд использует прием сюжетной инверсии: из открывающего поэму диалога Тристрама с пажом читатель узнает, что герой находится на смертном одре в ожидании Изольды Ирландской. Предшествующие события изложены в авторской речи, прерывающейся монологами Тристрама. Хронотоп отличается сложностью. В поэме одновременно сосуществуют два временных потока: настоящее сплетаются с возрождающимися в воспоминаниях героя разными периодами его жизни. Основным местом действия является Бретань, но в мечтах герой пребывает в Корнуолле, Тинтажеле, Ирландии - в местах, связанных с эпизодами его юношеской любви. В поэме воссозданы лишь ключевые моменты средневекового романа. Автор выступает в роли истолкователя, объясняя, что предшествовало событиям, о которых вспоминает герой. Так, в предсмертном бреду Тристрам вспоминает, как они с Изольдой выпили кубок с любовным напитком, и лишь затем автор объясняет, почему герои оказались на корабле. Пропущен значительный отрезок времени, и в сознании героя всплывает диалог с Изольдой накануне их вынужденной разлуки, сопровождаемый рассказом автора о встрече Тристрама с Изольдой Бретонской.
При этом главный акцент в поэме делается на противопоставлении двух Изольд, причем, в целом следуя средневековому сюжету, Арнольд создает собственный образ Изольды Бретонской. Впервые облик жены Тристрама обрисован автором, который берет на себя роль стороннего наблюдателя во время диалога героя с пажом, задаваясь вопросами, что за рыцарь слабый и бледный обложен подушками на кровати бурной декабрьской ночью, что за кроткая бледная леди, на которые тут же отвечает сам. Облик Изольды Бретонской обрисован с явной симпатией: она названа «прелестным цветком» (“sweet flower”), «подснежником у моря» (“snowdrop by the sea”), автор упоминает о ее «редкостной мягкости» (“mildness rare”), белоснежных руках, золотых волосах (“golden hair”), ее хрупкой красоте, ее глазах, невинных, как у детей, называя ее «прекраснейшей христианской душой», “the sweetest Christian soul alive” [Arnold 1995, 141].
Характеристика другой Изольды менее привлекательна, ее доминирующие черты - красота и гордость, осознание собственной власти: “other Iseult fair, / That proud first Iseult, Cornwall’s queen” [Arnold 1995, 141]. Эпитет “гордый”, “proud” как ее атрибут появляется неоднократно. В отличие от невинных детских глаз другой Изольды, у королевы Корнуолла «гордые черные глаза», “proud dark eyes” [Arnold 1995, 148], манера отвечать резко и нетерпеливо, поднимая руку в командном жесте, с величественным видом откидывать назад свои черные волосы. Тристрам при встрече называет ее «жестокой», “cruel” [Arnold 1995, 150] и «надменной», “haughty” [Arnold 1995, 151]. При этом и она достойна сострадания. В беседе с Тристрамом она признается, что не могла приехать раньше, она не свободна, скована золотыми узами, вынуждена разделять трон с «глубоко порочным мужем», “deep-wrong’d husband” [Arnold 1995, 151], находиться в обществе услужливых придворных с их ничтожными разговорами. Показательно, что Арнольд отказывается от образа Бранжьены, не освобождая героев от ответственности за собственную оплошность. Увидев золотой кубок и думая, что он наполнен водой, Изольда, мучимая жаждой, просит Тристрама подать его ей, сделав при этом первый глоток, а затем выпивает любовный напиток сама, оказавшись главной виновницей дальнейших событий. Волшебный напиток, разлившись в крови Тристрама и Изольды, связал их души, став источником любви и страдания, “binds their souls working love, but working teen” [Arnold 1995, 141]. Таким образом, в интерпретации Арнольда, причиной любви Тристрама к Изольде Ирландской становится колдовская сила напитка, тогда как любовь героя к Изольде Бретонской вызвана ее личностными качествами.
Во всех средневековых источниках упоминается о светлых, золотых волосах Изольды Ирландской, о ее белокурых волосах пишет де ла Вилль-марке: “la belle Iseult aux blonds cheveux” [ La Villemarque I860, 67]. У Арнольда Прекрасная Изольда - обладательница волос цвета воронова крыла, “raven hair” [Arnold 1995, 143], тогда как у Изольды Бретонской волосы по цвету и сиянию уподоблены золотой застежке ее платья. Цвет волос здесь служит выразительной характеристикой героинь. Традиционно черные волосы указывают на страстность натуры, светлые локоны -на внутренний свет, мягкий характер, что связано и с их символическим смыслом: «Темный или каштановый оттенок подчеркивает темную, земную энергию; золотые волосы ассоциируются с солнечными лучами и со всей обширной солнечной символикой» [Керлот 1994, 125].
Нарушая традицию, Арнольд отказывается представлять Изольду Бретонскую ревнивой и мстительной. Она не отходит от постели умирающего мужа, в бреду зовущего другую Изольду, сочувствуя при этом его душевным терзаниям:
Her look was like a sad embrace;
The gaze of one who can divine
A grief, and sympathize [Arnold 1995, 148].
У де ла Вилльмарке отсутствует эпизод с черным и белым парусом, но при этом поступок жены Тристрама становится причиной смерти героя. Раскрыв тайну любви мужа, Изольда Бретонская решает отомстить. Узнав о приезде Изольды Ирландской, она лжет ему, что «королева Корнуэль-са отказалась выполнять свои обеты, и Тристрам умер от огорчения» [La Villemarque I860, 69]. В поэме Арнольда жена Тристрама не препятствует его встрече с Изольдой Ирландской, полностью устраняясь во время их последней беседы.
В средневековых версиях романа Тристрам, едва женившись на Изольде Бретонской из-за сходства имен, осознает свою оплошность и остается равнодушным к жене. У Арнольда герой, даже мечтая о встрече с Изольдой Ирландской, относится к жене с любовью и нежностью. Во всех средневековых источниках брак Тристана и Изольды Бретонской оставался бездетным, в поэме Арнольда у них двое детей. Герой тронут тем, что Изольда Бретонская не отходит от него во время болезни, его беспокоит вид жены, такой же бледной, как он сам, из-за неусыпной заботы о нем:
Poor child, thou art almost as pale as I:
This comes of nursing long and watching late [Arnold 1995, 148].
Он просит ее поцеловать за него детей, которые уже спят, и не отказываться от ночного отдыха, с ним останется паж.
Таким образом, к обеим Изольдам Тристрам испытывает любовь, но любовь к жене - нежное чувство, связанное с духовным началом, любовь к Изольде Ирландской - роковая страсть, магическая по своей природе. Влечение к обеим связано с разными этапами его жизни, названными в стихотворении Арнольда периодами юности, расцвета и покоя, увядания:
There were two Iseults, who did sway Each her hour of Tristram’s day;
But one possess’d his waning time, The other his resplended prime [Arnold 1995, 141].
Периоды юности и покоя ассоциируются с контрастными временами года. Тристрам умирает зимой, декабрьским вечером под печальный шум огромных волн, которые обрушиваются на песчаный берег, его воспоминания о юношеской любви связаны с зеленым лесом, деревьями в солнечных лучах, пышным цветением весны или лета.
Вторая часть поэмы посвящена последней встрече Тристрама и Изольды Ирландской. Они вместе страдали, вместе провели печальную юность, и их день близится к концу. Изольда заявляет, что останется у ложа Тристрама, она готова стать рядом с его женой, которая не станет ревновать к униженной, бледной и печальной сопернице. Но двум Изольдам не суждено встретиться: в последний раз поцеловав Изольду, Тристрам умирает, и Изольда вслед за ним опускается в предсмертном обмороке, сжимая его руки.
В финале второй части новым действующим лицом становится вытканный на гобелене охотник в зеленой одежде. Стоя среди зеленого леса, он с изумлением и тревогой всматривается в происходящее, задаваясь вопросами, кто эта прекрасная леди, стоящая на коленях у кровати, кто этот бледный рыцарь, который кажется мраморным, как оказалась здесь ярко освещенная комната, тем самым уподобляясь автору, также задающему вопросы в конце первой части поэмы. Копошится в берлоге дикий вепрь, злые собаки берут след, но, как и хозяин, они застыли на месте. И автор призывает хозяина гнать собак и трубить в окольцованный золотом рог, охотник не разбудит спящих, они недвижны, холодны, как те, кто жил и любил тысячу лет назад.
По замечанию Д.Р. Стэнджа, «в смерти Тристрам и Изольда становятся достоянием искусства и вечности», отождествляя себя с образом на гобелене, автор подчеркивает сложный характер взаимодействия разных периодов времени, смерти и искусства [Stange 1978, 141]. Другую интерпретацию предлагает А.Д. Куллер, по мысли которого, охотник настолько наивен, незнаком со страстью и смертью, что полагает, будто рыцарь лишь спит, а леди молится на коленях. В эпизоде с охотником ученый усматривает мысль о размытости границ между жизнью и искусством: «Внезапно он шагнул из вечного мира искусства в реальный мир страсти, и, хотя ему сказано вернуться назад в гобелен, мы сомневаемся, что он останется прежним» [Culler 1966, 148]. Между тем, следует учитывать и род занятий охотника, с которым отождествляет себя автор. Старинный сюжет - своего рода охотничий трофей, найденный поэтом. Как и охотник, поэт может использовать добытое, но он бессилен дать ему новую жизнь. Жившие много лет назад Тристрам и Изольда неподвижны и холодны, как мрамор, они стали достоянием далекого прошлого. Не случайно лес на гобелене получает эпитет “fresh”, “молодой”, “цветущий”, это весенний лес юности героев, где они, как и охотник, будут пребывать вечно, став достоянием искусства.
В отличие от средневековых источников, поэма Арнольда не заканчивается смертью Тристрама и Изольды. Действие заключительной части разворачивается спустя год после того, как король Марк увозит тела жены и племянника в Корнуолл, чтобы похоронить их вместе в часовне. В поэме описан один день из жизни Изольды Бретонской, который она проводит с детьми, играющими в лощине у берега моря. Вокруг простирается суровый зимний пейзаж со скалами, чахлой травой, можжевельником, местами сверкают на солнце прожилки кварцевых камешков. Картину оживляют деревья остролиста с блестящими листьями, красными ягодами и веселая беготня детей. Пейзаж ассоциируется с монотонной унылой жизнью Изольды Бретонской, единственная радость которой заключена в детях. Наигравшись, дети приходят на зов матери, чтобы послушать старинную бретонскую сказку, закончив которую, она уводит их домой. Уложив детей, она склоняется над рукоделием. Кроме детей, компанию ей составляют лишь седовласый сенешаль, служанки и старый пес Тристрама. У Изольды Бретонской всегда безрадостный утомленный вид, и автор задается вопросом, счастлива ли она. Ее существование однообразно, каждый день похож на другой. Но при этом она не хочет перемен, ей нравится жизнь, которую она ведет:
But these she loves; and noisier life than this
She would find ill to bear, weak as she is [Arnold 1995, 158].
По терминологии автора, это жизнь покоя, calm. В такой жизни поэт обнаруживает преимущество: героиня свободна от тирании страсти, которая довлеет над душой, полностью подчиняет себе людей, меняет их настолько, что все, что происходило с ними ранее, кажется им иллюзорным, «тенью и мечтой», “shadow and dream” [Arnold 1995, 159]. Причем, автор пишет об одержимости любой страстью, не отделяя любовь от прочих страстей: «Будь то честолюбие или раскаяние, или любовь», “Call it ambition or remorse, or love” [Arnold 1995, 159], называя страсть «болезненным беспокойством, неестественной горячкой», признаваясь, что его раздражает вид людей, одураченных такой неразумной страстью:
And yet, I swear, it angers me to see
How this fool passion gulls men potently Being, in truth, but a diseased unrest, And an unnatural overheat at best [Arnold 1995, 159].
Эти рассуждения служат прелюдией к изложению сказки, которую зимним вечером Изольда Бретонская рассказывает детям. Ее сюжет Арнольд заимствовал у Мэлори, изменив имя героини (в «Смерти Артура»
ее зовут Ниневой). Мерлин и Вивиан верхом отправляются в цветущий апрельский лес. У Мэл ори Нинева, которой Мерлин «так докучал, что она только и мечтала, как бы избавиться от него» [Мэлори 1993, 92], обманом замуровывает его в пещере. В поэме Арнольда герои садятся на траву, и Вивиан с помощью чар погружает Мерлина в сон, подобный смерти, а затем, девять раз взмахнув покрывалом, очерчивает вокруг него магический круг, к котором он останется узником до судного дня, получив таким образом свободу, потому что он надоел ей своей любовью:
But she herself whither she will can rove
For she was passing weary of his love [Arnold 1995, 161].
Сказка Изольды Бретонской иллюстрирует слова автора о разрушительных страстях. Вивиан столь прекрасна, что очарованный мудрец забывает о собственном магическом даре, лишается разума, послушно выполняя любой ее приказ:
She look’d so witching fair, that learned wight
Forgot his craft, and his best wits took flight [Arnold 1995, 160].
Хотя в сказке речь идет о неразделенной любви, ее сюжет отчасти перекликается с историей Тристрама и Изольды. Местом прогулки Мерлина и феи также является весенний лес, у Вивиан каштановые локоны (“brown curls” [Arnold 1995, 160]), цвет которых имеет тот же символический смысл, что и черные волосы Изольды. Земной характер внушаемой Вивиан страсти подчеркивается ее связью со стихией леса: на ней зеленое платье, в ее облике усматривается «лесной дух»: “The spirit of the woods was in her face” [Arnold 1995, 160]. Любовь Мерлина к Вивиан, как и Тристрама к Изольде, - магическая по своей природе страсть, порабощающая их волю и разум.
Дети выслушивают сказку «с огромным изумлением», “in wide surprise” [Arnold 1995, 157], им недоступен ее смысл. По замечанию Л.Р. Прэтт, сказка нужна самой Изольде Бретонской, она помогает ей понять страсть Тристрама и «преодолеть собственное страдание» [Pratt 1978, 90]. Д.Р. Стэндж видит предназначение сказки в стремлении Арнольда «исключить сентиментальную интерпретацию судьбы Тристрама» [Stange 1978, 277]. С этим соглашается и Э.Х. Хэррисон, полагающий, что поэма в целом, посвященная трагедии не столько Тристрама и Изольды, сколько Изольды Бретонской, «ставит под сомнение ценность романтической любви» [Harrison 2009, 24]; в сказке о Мерлине и Вивиан автор подвергает критике идеал любви, разрушающей человеческую жизнь [Harrison 2009, 25].
Между тем, эти суждения представляются слишком категоричными. В том же году, что и поэма (1852), было опубликовано стихотворение “Youth’s Agitations” («Волнения юности»). Его герой размышляет о том,

что в юности бурные страсти доставляют беспокойство, но в зрелые годы он будет находить тысячи преимуществ в юности и мечтать о том, чтобы вернуть ее волнения и страсти:
.. .then I shall begin to find
A thousand virtues in this hated time, Then I shall wish its agitations back, And all its thwarting currents of desire... [Arnold 1995, 137].
Стихотворение было переиздано в 1867 г., как и “Youth and Calm”, поэт не изменил своего отношения к двум периодам жизни и к страстям, свойственным юности. В основе поэмы обнаруживается авторская концепция “youth and calm”. Первое, youth, связано со страстной любовью Тристрама и Изольды Ирландской, второе - calm - с Изольдой Бретонской. Но calm для автора - состояние заката, приближающейся старости и смерти. Описывая существование Изольды Бретонской после смерти Тристрама, поэт заключает, что, по сути, она умирает под маской юности: “<...> in truth, / She seems one dying in a mask of youth” [Arnold 1995, 157]. Таким образом, признавая разрушительную силу страстей и даже осуждая их (чем объясняются негативные черты образа Изольды Ирландской, чья любовь губительна для нее самой и для Тристрама), поэт не идеализирует и бес-событийную спокойную жизнь. Авторская позиция в поэме остается двойственной.
Воссоздавая сюжет о любви Тристрама и Изольды Ирландской, Арнольд осознавал невозможность появления таких характеров и такой силы чувств в современной Англии. Изольда Бретонская в больше мере напоминает не столько человека Средневековья, сколько современницу поэта, соответствуя викторианскому женскому идеалу образцовой жены и матери, сдержанной в проявлении своих чувств. Образы трех героев соответствуют разным стадиям развития английского характера, исследование которого содержится в работе Арнольда «Изучение кельтской литературы» (1865-1866). Древнейшей составной частью английского характера, по Арнольду, является кельтский элемент, который отличается силой чувств, одухотворенностью, восприимчивостью, непокорностью, неприятием «деспотизма факта». Особенность натуры кельта, его чувствительность стали «главным источником, из которого проистекали рыцарство, и средневековый роман, и прославление женского идеала» [Arnold 1891, 90]. Но со временем к кельтскому элементу в английском характере присоединились германский и норманнский, ассоциирующиеся с рациональным, практичным, обыденным началом. Эти качества не присущи Тристраму и Изольде, жившим тысячу лет назад. Образ Изольды Бретонской отвечает представлению Арнольда о национальном характере современников, в котором кельтское начало было подавлено, отошло на задний план. Озабоченный распространением среди соотечественников «филистерства» как грубости и бездуховности, Арнольд считал возрождение кельтского духа условием появления нового типа англичанина, наделенного «большей духовностью, большим милосердием, большей человечностью» [Arnold 1891, XIX]. Можно предположить, что возвращение в издании 1869 г. к первоначальному варианту имени героя поэмы было связано с обозначившимся в этот период пристальным интересом автора к истокам английской нации. По сути, поэма «Тристрам и Изольда» является предваряющим более позднее сочинение Арнольда исследованием характера древних кельтов в его крайнем выражении и по контрасту с современным автору английским характером.