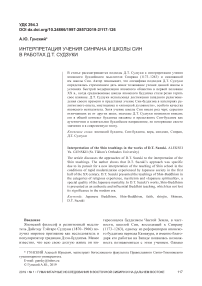Интерпретация учения синрана и школы син в работах Д.Т.Судзуки
Автор: Гунский Алексей Юрьевич
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Philosophia perennis
Статья в выпуске: 2 (48), 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются подходы Д.Т. Судзуки к интерпретации учения японского буддийского мыслителя Синрана (1173-1263) и основанной им школы Син. Автор показывает, что специфика подходов Д.Т. Судзуки определялась стремлением дать новое толкование учения данной школы в условиях быстрой модернизации японского общества в первой половине XX в., когда средневековые школы японского буддизма стали резко терять свое влияние. Д.Т. Судзуки использовал достижения западного религиоведения своего времени и представил учение Син-буддизма в категориях религиозного опыта, мистицизма и «японской духовности», особого качества японского менталитета. Хотя учение школы Син имело ряд черт, серьезно отличающих ее от других школ, подходы Д.Т. Судзуки позволили вписать его в общий контекст буддизма махаяны и представить Син-буддизм как аутентичное и влиятельное буддийское направление, не потерявшее своего значения и в современную эпоху.
Японский буддизм, син-буддизм, вера, синдзин, синран, д.т. судзуки
Короткий адрес: https://sciup.org/170175894
IDR: 170175894 | УДК: 294.3 | DOI: 10.24866/1997-2857/2019-2/117-126
Текст научной статьи Интерпретация учения синрана и школы син в работах Д.Т.Судзуки
Японский философ и религиозный мыслитель Дайсэцу Тэйтаро Судзуки (1870–1966) получил мировое признание как исследователь и популяризатор традиции Дзэн-буддизма. Менее известно, что всю свою долгую жизнь он ин- тересовался буддизмом Чистой Земли, в частности, школой Син, восходящей к Синрану (1173–1263), одному из реформаторов японского буддизма периода Камакура, и именно благодаря его работам на Западе появилась возможность познакомиться с этим учением. Однако более важным является то, что в своих работах Д.Т. Судзуки очертил круг основных идей, которые во многом определили направление дальнейших исследований Син-буддизма европейскими и японскими учеными второй половины XX в. В связи с этим представляется важным рассмотреть подходы Д.Т. Судзуки к интерпретации учения школы Син в рамках его общего понимания буддизма махаяны.
Синран был одним из реформаторов японского буддизма периода Камакура. Его учение и основанная его последователями «Истинная школа Чистой Земли» (Дзедо Синсю, кратко «школа Син») сосредоточивали внимание не на ритуалах и методах преобразования сознания, характерных для других буддийских школ, а на вере в спасительную помощь будды Амиды и возрождение после смерти в его Западном Рае. В условиях Японии Нового времени, вступившей в период быстрой модернизации, эта школа, как и японский буддизм в целом, стала быстро терять свое влияние. Возникла необходимость в переосмыслении наследия Синрана, которое позволило бы показать привлекательность и актуальность его учения в современном мире. Д.Т. Судзуки, соединив западные подходы с буддийским материалом, сумел создать одну из самых интересных и влиятельных интерпретаций Син-буддизма.
В данной статье мы будем опираться в основном на работы, вошедшие во второй том недавно изданного трехтомника избранных произведений Д.Т. Судзуки [17] (в первом содержатся его исследования по Дзэн-буддизму, в третьем – работы компаративистского характера). Редактором и автором вводной исследовательской статьи и комментариев к этому тому выступил Джеймс Доббинс, один из наиболее авторитетных современных исследователей Син-буддизма [11]. В состав тома вошли несколько больших эссе Д.Т. Судзуки, опубликованных в разное время в издаваемом им журнале «The Eastern Buddhist». Кроме того, здесь же опубликованы выдержки из двух больших работ Д.Т. Судзуки, «The Koan Exercise» и «Japanese Spirituality», касающиеся Син-буддизма; три работы, в которых он обращается к духовному опыту мёконин – «святых подвижников» школы Син: «Sayings of a Modern Tariki Mystic», «The Myōkōnin», «From Saichi’s Journals»; небольшое посмертно изданное эссе «Infinite Light», где Д.Т. Судзуки рассматривает понятие «бесконечного света», одного из атрибутов будды Амитабхи, и запись устного выступления
Д.Т. Судзуки в Нью-Йорке в 1955 г. «The Spirit of Shinran Shonin». Часть этих работ переведена и издана на русском языке [6, с. 124–139; 7, с. 12–213].
Что касается исследований отечественных авторов, связанных с трактовкой Д.Т. Судзуки учения Син-буддизма, в настоящее время можно назвать только небольшую статью Б.И. Джинджолия о практике произнесения имени будды Амиды ( нэмбуцу ) в интерпретации Д.Т. Судзуки [3].
Основные вехи биографии Д.Т. Судзуки
Д.Т. Судзуки прожил долгую и плодотворную жизнь, и для лучшего понимания его как буддийского мыслителя следует уделить внимание некоторым этапам его жизненного пути. На русском языке биография Д.Т. Судзуки достаточно подробно рассмотрена в диссертации Б.И. Джинджолия [2, с. 15–31], здесь же мы выделим те моменты, которые важны для понимания подходов Д.Т. Судзуки к учению школы Син.
Д.Т. Судзуки родился в достаточно состоятельной и образованной, но обедневшей после смерти отца семье. Его мать, также рано умершая, входила в одну из неортодоксальных групп почитателей будды Амиды. Еще в детстве Д.Т. Судзуки вместе с матерью получил посвящение в «тайное учение», существовавшее в подобных школах, сопровождавшееся вхождением в некое особое состояние сознания во время длительной непрерывной рецитации имени будды Амиды [11, p. 22]. Позднее Д.Т. Судзуки изучал западную философию в Токийском университете. Тогда же он начал практиковать Дзэн под руководством признанного мастера Сяку Соэна (1859–1919), и в 1896 г. пережил опыт дзэнского «просветления» – сатори. Его буддийский учитель, Сяку Соэн, был достаточно необычным человеком. Он получил университетское образование западного образца, некоторое время был тхерава-динским монахом на Шри Ланке. Основной его целью было представить миру современный, универсальный буддизм как учение, имеющее ценность для всего человечества. Сяку Соэн был участником Всемирного конгресса религий, проходившего в Чикаго в 1893 г. Д.Т. Судзуки сохранял контакт с учителем вплоть до смерти последнего и наследовал его цель – сделать буддизм религией, актуальной в условиях современной Японии, показать внесектарное, универсальное значение буддизма и выразить буддийское учение таким способом, который был бы понятен и привлекателен для Запада [11, p. 24].
Во время своего первого долгого пребывания в Америке в начале XX в. Д.Т. Судзуки активно изучал научную и философскую мысль Запада, и сотрудничал с известным американским философом и религиоведом Полом Карусом. Но наибольшее влияние на него оказала концепция религиозного опыта, разрабатываемая в то время Уильямом Джемсом. Он находил эту концепцию особенно убедительной и чувствовал, что она способна корректно объяснить его личный опыт дзэнского сатори [11, p. 25]. Концепция религиозного опыта стала ключевой в его интерпретации буддизма в целом и буддизма Чистой Земли в частности.
Во время пребывания в Америке Д.Т. Судзуки познакомился со своей будущей женой, американкой Беатрис Лэйн. Она имела хорошее образование, в числе ее преподавателей в Рэдклиффском колледже Гарвардского университета и Колумбийском университете были Уильям Джеймс, а также философы Джосайя Ройс и Джордж Сантаяна. Беатрис Лэйн активно помогала мужу в редактировании и публикации его работ на английском языке. Позже она стала автором и соредактором издаваемого Д.Т. Судзуки журнала «The Eastern Buddhist». Во многом благодаря ее усилиям журнал получил широкое признание, а некоторые из выражений, которые использовались в публикациях для передачи буддийских идей, стали в английском языке стандартной терминологией [11, p. 49]. Незадолго до своей смерти в 1939 г. Беатрис Лэйн издала собственную работу по буддизму махаяны, получившую хорошие отзывы специалистов и выдержавшую несколько переизданий [18]. Беатрис Лэйн являла собой тип религиозного искателя, ушедшего от традиционного христианства и обратившегося к восточным религиям и различного рода синкретическим и эклектическим учениям, таким как теософия. Во время пребывания в Японии она вступила в теософскую ложу в Токио, а позднее основала теософскую ложу в Киото. Заседания Теософского общества в Киото проходили в основном в их семейном доме [10]. Д.Т. Судзуки симпатизировал теософскому движению и даже короткое время был председателем теософской ложи в Токио. Сохранились свидетельства, что первым подарком Д.Т. Судзуки своей будущей супруге было сочинение Е.П. Блаватской «Голос Безмолвия», которое он охарактеризовал как «чистый буддизм махаяны» [10]. Эклектич- ные и синкретические подходы теософии были ему в чем-то близки, он сам часто соединял разнородные идеи, что позволяло ему выразить буддийские идеи новым и неожиданным образом. Подобного рода методы он применял и в исследованиях по буддизму Чистой земли.
Следует отметить, что одним из факторов, обусловивших интерес Д.Т. Судзуки к буддизму Чистой земли, была его тесная личная связь со многими последователями этого направления. В течение многих лет он преподавал в университете Отани, одном из двух главных конфессиональных университетов школы Син. Здесь Д.Т. Судзуки нашел круг широко мыслящих буддийских ученых и мыслителей, которые, как и он, старались придать буддизму новое значение. В отличие от Д.Т. Судзуки школа Син была их личной традицией, и они старались найти ей место в мире современного буддизма. Д.Т. Судзуки постепенно воспринял их симпатии, и, хотя и остался вне традиции, создал собственную независимую и оригинальную трактовку Син-буддизма [11, p. 28].
Общие подходы Д.Т. Судзуки к буддизму
Можно выделить несколько основных концепций, которые Д.Т. Судзуки применял в интерпретации буддизма. Прежде всего, это понятие религиозного опыта, введенное У. Джеймсом в начале XX в. С развитием научной мысли, стремящейся свести все явления к объективно исследуемым причинам и следствиям, концепция религиозного опыта стала одним из способов оградить внутренний мир человека от подобного рода механистических подходов, сохранив для него внутреннюю свободу, автономность и самостоятельность. Д.Т. Судзуки, как и множество других религиозных мыслителей, использовал концепцию опыта, чтобы показать, что религия является реальным и легитимным измерением человеческой жизни, лежащим за пределами научного исследования и редукционистских подходов. Кроме того, для Д.Т. Судзуки общая идея религиозного опыта, высказанная У. Джеймсом, соединилась с его личным опытом практика Дзэн-буддизма. В дальнейшем Д.Т. Судзуки развил и уточнил свое понимание идеи религиозного опыта, соединив это понятие с двумя другими: мистицизм и духовность (spirituality). Эти концепции заняли центральное место в его интерпретации буддизма [11, p. 31].
Судзуки рассматривал религиозный опыт как центральный элемент буддизма, без которо- го священные тексты, обряды и другие аспекты религии не имеют смысла. Религиозный опыт не обусловлен внешними причинами или интеллектом, это внутренняя внерациональная активность или внутреннее событие. Д.Т. Судзуки рассматривал религиозный опыт как психологическую трансформацию человека, внутреннюю переориентацию взгляда на мир. Согласно Д.Т. Судзуки, переживание подобного опыта является самым важным событием в жизни буддиста [7, с. 19–20].
Перенос центра тяжести на религиозный опыт в корне менял традиционное, принятое в Японии в течение многих веков, представление о буддизме как сложном многоаспектном образе жизни, включающем в себя выполнение определенных ритуалов, предписанное поведение, отождествление себя с определенной школой, заучивание и постижение учения, участие в жизни религиозной общины. Религиозный опыт в этом случае мог составлять один из компонентов подобного рода сложного образа жизни. Д.Т. Судзуки же представил буддизм, прежде всего, как внутреннее переживание, по отношению к которому все внешние проявления религиозной жизни стали играть подчиненную роль. Такая стратегия в целом оказалась победной для Д.Т. Судзуки (как и других буддийских мыслителей) при защите буддизма от критики со стороны науки и секулярного общества [11, p. 32].
Д.Т. Судзуки расширил интерпретацию религиозного опыта, добавив к нему понятие мистицизма. Мистицизм рассматривался им как один из видов религиозного опыта, но при этом наиболее глубокий и трансформирующий. Он приравнивал понятие мистицизма к дзэнскому сатори или буддийскому просветлению-самбодхи (для него эти понятия были тождественны) [6, с. 89–101]. Характеристики мистического озарения наиболее подходили для описания буддийского просветления, как его понимал Д.Т. Судзуки, – внезапный и неожиданный характер и глубокое внутреннее чувство постижения или знания, возникающее в ходе этого события. Д.Т. Судзуки объяснял подобного рода состояние как потерю всякой отделенности от окружающего мира, хотя и без уничтожения личной идентичности. Подобное чувство всеобщего единства или не-двойственности может быть найдено в описании мистических переживаний во всем мире, но Д.Т. Судзуки рассматривал это состояние как важнейший элемент буддийского просветления.
Использование понятия мистицизма хорошо подходило для целей объяснения просветления-сатори в Дзэн-буддизме, однако толкование центрального для школы Син понятия веры, синдзин , означающее личную встречу человека и будды Амиды, с помощью концепции мистицизма вызывало проблемы. Тем не менее Д.Т. Судзуки широко использовал этот термин в компаративистском труде «Мистицизм христианский и буддийский», вышедшем в 1957 г. Он содержит множество примеров из традиции буддизма Чистой Земли [6]. Позднее Судзуки высказывал некоторые сожаления по поводу использования мистицизма как универсального метода для объяснения буддизма, однако это уже никак не повлияло на созданную им интерпретацию буддизма как мистицизма [11, p. 33].
Религиозный опыт и мистицизм помогали объяснять внезапный и глубокий момент религиозного пробуждения, однако со временем Д.Т. Судзуки начал искать способы включить в свое понимание буддийского опыта практику повседневной жизни, в связи с чем он в какой-то степени вернулся к пониманию буддизма как сложного многоаспектного явления, не сводимого только к мистическому опыту. Для этих целей Д.Т. Судзуки использовал понятие «японская духовность» (Japanese spirituality), впервые появившееся в написанной на японском языке работе 1944 г., позднее переведенной на английский [15]. Д.Т. Судзуки определял «духовность» ( рэйсэй 霊性 )1 как особый взгляд на мир, некое состояние не-двойствен-ного единства, в котором противоположности, присущие миру, – между материальным и духовным, между собой и другими, между этим миром и иным миром, непросветленным человеком и просветленным Буддой, между сансарой и нирваной – примиряются без уничтожения различий.
С таким взглядом на мир Д.Т. Судзуки связал логику «спонтанного соединения и разделения» (сокухи но ронри, 即非の論理), некоего способа мышления, в котором вещи одновременно считаются и совпадающими, и различающимися между собой. Д.Т. Судзуки доказывал, что духовность рэйсэй, не-двойственное восприятие противоположностей, является определяющей чертой как просветления в Дзэн-буддизме, так и веры-синдзин в Син-буддизме.
Определение духовности как не-двойствен-ного единства дополняло ранее применяемые Д.Т. Судзуки понятия религиозного опыта и мистицизма, но в этом случае оно не ограничивалось моментом внезапного озарения. Как и религиозный опыт, Д.Т. Судзуки рассматривал духовность- рэйсэй не как рациональное или интеллектуальное событие, но как состояние, основанное на базовом опыте «связи с землей» (по-русски, видимо, правильнее сказать с «почвой»). Возделывание земли, жизнь на земле, включение в ее природные ритмы – вот что является источником и основой духовности рэйсэй . Согласно Д.Т. Судзуки, духовность- рэй-сэй в наибольшей степени нашла воплощение в таких формах буддизма, как Дзэн и Син-буддизм. Он считал более аристократические, усложненные формы буддизма слишком искусственными и далекими от «почвы». Дзэн и буддизм Чистой Земли, основанные, соответственно, на самурайской и крестьянской культуре, имели сильную связь с «землей». Одним из следствий подобного подхода стал все возрастающий интерес Д.Т. Судзуки к изучению духовного опыта мёконин ( 妙好人 , «чудесно-хороший человек») – «святых» буддизма Чистой Земли, обычно происходивших из низших слоев общества, не имевших образования и часто неграмотных, как образца духовности- рэйсэй [11, p. 33].
Эти три концепции – религиозный опыт, мистицизм и японская духовность – послужили базовыми принципами, на которых Д.Т. Судзуки построил свою интерпретацию буддизма. Первые два понятия он использовал в основном в толкованиях Дзэн-буддизма, а с помощью третьего понятия старался включить в свою интерпретацию и буддизм Чистой Земли. Однако Син-буддизм представлял для Д.Т. Судзуки особый вызов: он менее других поддавался толкованию с точки зрения современных подходов, поскольку в его основе лежало представление о будде из иного мира и его потустороннем рае, в котором верующий надеялся возродиться после смерти, а в качестве основной практики использовалось механическое монотонное распевание имени будды Амиды. Син-буддизм плохо соответствовал идее внезапного просветления и мистицизма, которые успешно использовались для описания опыта Дзэн. Тем не менее Д.Т. Судзуки удалось создать собственную систему интерпретации Син-буддизма.
Интерпретация Син-буддизмав работах Д.Т. Судзуки
Надо сказать, что Д.Т. Судзуки как оригинальный и синкретический мыслитель достаточно свободно обращался с текстами и базовыми идеями Син-буддизма, то есть школы, основанной на учении Синрана. Д.Т. Судзуки использовал термин Син-буддизм расширительно, частично включая в него идеи других школ буддизма Чистой Земли, в частности концепции Иппэна, основателя школы Дзисю: ( 時 宗 ), и Сёку, ученика Хонэна, основателя школы Сэйдзан ( 西山 ).
Кроме того, Д.Т. Судзуки активно использовал в толкованиях Син-буддизма такие сочинения неясного происхождения, как « Таннисё » ( 歎異抄 , «Избранные записи скорбящего об отступничестве») [9] и « Андзин кэцудзё сё » ( 安心決定抄 , «Обретение успокоенного ума»), не принадлежавшие перу Синрана. « Таннисё » считается сочинением Юйэн-бо, ученика Синрана, « Андзин кэцудзе се » [13], видимо, отражает представления школы Сэйдзан. В традицию Син-буддизма этот трактат ввел и популяризовал Рэнне (1415–1499), восьмой патриарх школы Син. Вероятно, Д.Т. Судзуки привлекал афористический и иногда парадоксальный стиль этих сочинений, напоминающий стиль дзэнских авторов. Главное сочинение Синрана, трактат « Кёгёсин-сё » ( 教行信証 , «Учение, подвижничество, вера и свидетельство»), в меньшей степени привлекал внимание Судзуки, поскольку он считал его слишком схоластическим и тем самым далеким от духовности- рэйсэй , основы Син-буддизма [17, p. 276]. Подобное отношение к текстам не изменило даже то обстоятельство, что ближе к концу жизни Д.Т. Судзуки активно занимался переводом « Кёгёсинсё » на английский язык.
Подходы Д.Т. Судзуки к интерпретации учения школы Син были достаточно избирательны. Он выделил в учении Синрана ряд тем, которые были ему интересны и в толковании которых он мало считался с традиционным пониманием. Ряд важных моментов был исключен из рассмотрения. Так, Д.Т. Судзуки практически не затрагивал тему «последних буддийских времен» (маппо), эпохи упадка буддийского учения, игравшую значительную роль в учении Синра-на. В работе «Japanese spirituality» Д.Т. Судзуки высказал мнение о том, что представление о наступлении эпохи маппо было характерно, скорее, для небольшого слоя аристократии уходящей эпохи Хэйан, а не для широких масс крестьянства, составлявших основную социальную базу Син-буддизма [15, p. 49–50]. В целом можно предположить, что тема «последних времен» представлялась ему неактуальной в условиях современности.
Исследователи выделяют несколько характерных моментов в методах интерпретации учения Син-буддизма, принятых Д.Т. Судзуки. Во-первых, это радикальный перенос внимания с посмертного существования и иного мира на эту жизнь и этот мир. Перерождение в Западном Рае, Чистой Земле будды Амиды, и посмертное существование оказались исключены из его толкований.
Во-вторых, это стремление Д.Т. Судзуки подчеркнуть то обстоятельство, что личный религиозный опыт имел в Син-буддизме то же решающее значение, что и в Дзэн-буддизме. Он постарался выделить в традиции Син-буддизма элементы этого внутреннего опыта.
Третье направление мысли Д.Т. Судзуки – это стремление вывести на первое место недуалистические, не-двойственные элементы традиции Син. Такой подход хорошо работал при рассмотрении дзэнского сатори, однако традиция Син-буддизма во многом основывалась на дуальных противопоставлениях, например, противопоставлении этого мира и Чистой Земли, грешного человека и будды Амиды и т. д. Д.Т. Судзуки применял методы интерпретации, позволяющие нейтрализовать подобный дуализм и подчеркнуть не-двойственность опыта в Син-буддизме, как и в случае Дзэн-буддизма. Он использовал логику «спонтанного соединения и разделения», связанную с особым типом духовности, о чем мы говорили выше [11, p. 42].
Одной из базовых дуалистических концепций Син-буддизма было противопоставление спасения собственными усилиями адепта и спасения с опорой на «иную силу», спасительную помощь будды Амиды (дзирики, 自力 – тарики, 他力). Синран однозначно подчеркивал превосходство тарики (спасающая сила Будды) над дзирики (собственные усилия адепта). Д.Т. Судзуки соотнес понятие тарики с опытом буддизма Чистой Земли, понятие дзирики – с опытом Дзэн-буддизма и стал трактовать их как дополняющие друг друга, но говорящие, по сути, об одном и том же. Мистический опыт, в котором исчезают и соединяются противоположности, стал тем местом, где встречаются дзирики и тарики. Его анализ в этом случае во многом совпадал с описанием двух типов религиозного обращения, «волевого» и «безвольного», которые рассматривал У. Джеймс [1, с. 163].
Следующий элемент традиции Син, подробно рассмотренный Д.Т. Судзуки, – это нэмбуцу , практика повторения (или распевания) словесной формулы Наму Амида буцу («Слава будде Амиде!»), его ритмическая повторяющаяся структура. Судзуки анализировал, как подобная техника может менять сознание человека, при этом производил ее сравнение с суфийскими практиками, в ходе которых распевалось имя Аллаха, и практикой коанов в Дзэн (психологические механизмы практики нэмбуцу Д.Т. Судзуки подробно разбирал в одном из «Очерков о дзэн-буддизме», посвященном исследованию коанов [7, с. 151–212]). Д.Т. Судзуки рассматривал нэмбуцу как вид религиозного опыта, проявляющегося в качестве мгновенного мистического озарения либо длящегося состояния сознания. Судзуки считал, что в таком опыте происходит слияние будды Амиды и верующего человека, и в некотором смысле остается только нэмбуцу . Это состояние не-двойственно-сти и делает нэмбуцу собственно религиозным опытом, при этом оно перестает быть практикой для достижения рождения в Чистой Земле после смерти, а становится событием, происходящим здесь и сейчас. Однако подобная интерпретация, скорее, соответствовала взглядам Иппэна из школы Дзисю, чем учению Синра-на. Судзуки настойчиво искал подтверждения подобного понимания в традиции собственно Син-буддизма и нашел его в жизни святого- мё-конина Асахара Сайти (1850–1932)2. Хотя подобных примеров в традиции святых- мёконин было крайне мало, это не помешало ему рассматривать пример Сайти как образец духовного опыта Син-буддизма [11, p. 44].
Еще одна тема, которую разрабатывал Д.Т. Судзуки, – представление о Западном Рае (Чистой Земле будды Амиды). Традиционно Чистая Земля понималась как некое место, в котором человек перерождается после смерти, однако такие представления не выдерживали критики со стороны современных научных астрономических представлений. Д.Т. Судзуки интерпретировал представления о Западном Рае с точки зрения религиозного опыта. Он отождествил его с определенным духовным состоянием (или состоянием сознания человека). Возродиться в Чистой Земле означает пребывать в состоянии гармонии и единства со всеми вещами, а не в состоянии вражды или противопоставленности. И поскольку такое состояние сознания может и должно быть достигнуто в этой жизни, оно принадлежит не будущей жизни, а этой. Д.Т. Судзуки отождествил Чистую Землю с земным миром, и этот земной мир становится Чистой Землей в тот момент, когда человек обретает правильное состояние сознания. Основанием подобной интерпретации Чистой Земли могли послужить идеи, содержащиеся в таких сочинениях, как чаньская «Сутра помоста шестого патриарха» или в махаянской сутре о Ви-малакирти, однако оба эти текста не были базовыми для традиции школы Син3. Тем не менее подобное толкование сводило воедино все три принципа интерпретации традиции, которые применял Д.Т. Судзуки: перенос центра тяжести на нынешнюю жизнь, на религиозный опыт и на принцип недуальности, не-двойственности [11, p. 44].
Важным моментом для созданной Д.Т. Судзуки интерпретации Син-буддизма была доктрина кихо иттай ( 機法一体 ), представление о том, что грешный человек и совершенный будда составляют единую сущность, нерасторжимо едины между собой. Данная концепция наиболее полно была отражена в трактате « Андзин кэцудзё сё » («Обретение успокоенного ума»), который, как уже говорилось, не принадлежал
Синрану и был введен в традицию значительно позже. Однако Д.Т. Судзуки считал этот текст одним из важнейших сочинений Син-буддизма и цитировал его чаще многих более аутентичных источников. Причина этого, безусловно, заключалась в том, что доктрина кихо иттай хорошо укладывалась в разрабатываемые им схемы. Не-двойственный характер этой доктрины – единство Будды и разумных существ – хорошо соответствовало базовым принципам Д.Т. Судзуки. Он последовательно применял этот принцип при толковании противоположностей: субъекта и объекта, Амиды и верующего, высшего просветления и человеческой страстности – все эти видимые противопоставления объединены в единую сущность. Этот принцип хорошо подходил и для толкования нэмбуцу как действия, объединяющего живые существа и будду Амиду, когда к верующим относилось выражение «наму», а сущность будды выражалась в его имени (Амида буцу). Произнесение имени актуализировало сущностное единство верующего и будды. С помощью подобного толкования Судзуки опять же подчеркивал не-двойственный характер религиозного опыта буддизма Чистой Земли [11, p. 45–46].
В фокусе внимания Судзуки оказалось и ключевое понятие учения Синрана – концепция веры- синдзин ( 信心 , «верящее ум-сердце»). К всестороннему исследованию этого термина он обратился во время работы над переводом на английский язык главного сочинения Синрана « Кёгёсинсё » в начале 1940-х гг. Как и в случае дзэнского сатори , Д.Т. Судзуки интерпретировал веру- синдзин в категориях религиозного опыта, мистицизма и духовности- рэйсэй . Вера в традиции Син понимается как точка встречи человека и будды Амиды – момент взаимодействия ума-сердца человека и ума-сердца Будды. Здесь возникает вопрос: соответствует ли такое понимание веры достижению буддийского просветления? Допущение этого соответствия, неявно принятое Д.Т. Судзуки, делало веру- син-дзин аналогом дзэнского сатори , которое, в свою очередь, рассматривалось как буддийское просветление в собственном смысле. Однако Синран понимал акт веры более сложно и неоднозначно, описывая, например, человека, обретшего веру, как бодхисаттву в последнем рождении, в состоянии, равном просветлению, но все же вера и просветление не отождествлялись. Толкование Д.Т. Судзуки выходило за эти пределы и приравнивало веру к просветлению и сатори [11, p. 47].
И, наконец, еще одной важной для Д.Т. Судзуки идеей Синрана была концепция дзинэн хони ( 自然法爾 ). Дзинэн хони в первом приближении можно определить как «естественность», свободу вещей и явлений быть такими, какие они есть сами по себе. Синран трактовал это выражение как состояние полного доверия будде Амиде, когда человек отказывается от собственных усилий и ухищрений ( хакараи, は からい ) и во всем полагается на действие будды Амиды. Д.Т. Судзуки представил дзинэн хони как образец духовности святых- мёконин – постоянного пребывания в не-двойственности. В повседневной жизни, идущей день за днем и минута за минутой, святой- мёконин постоянно ощущает свою неотделимость от будды Амиды, единство с ним [11, p. 48].
Как уже было сказано, общие принципы толкования Син-буддизма, принятые Д.Т. Судзуки, создавали представление о нем как об учении, всецело сфокусированном на настоящем, основанном на религиозном опыте и на не-двой-ственности как его основной характеристике. Судзуки был не единственным буддийским мыслителем, сделавшим упор на этих или подобных идеях. Как отмечают исследователи, ряд буддийских реформаторов, работавших в одно время с Д.Т. Судзуки в университете Отани, в своих попытках модернизировать традиционное понимание Син-буддизма также использовали категории внутреннего опыта, эзотеризма (как недоступности для исследования объективными научными методами) и сосредоточенности на жизни в этом, а не потустороннем мире [14]. Однако синтез, осуществленный Д.Т. Судзуки, оказался наиболее цельным и оригинальным. Хотя его идеи не соответствовали традиционному пониманию основных идей учения Синрана, они заставили по-новому взглянуть на многие понятия Син-буддизма и стимулировали дальнейшие дискуссии и толкования.
Значение работ Д.Т. Судзукидля осмысления наследия Син-буддизма
На наш взгляд, Д.Т. Судзуки вписал Син-буддизм в общую традицию махаяны, переинтерпретировав некоторые уникальные черты учения школы Син, сместив акценты и опустив определенные моменты этого учения. Надо отметить, что подобный подход не только определялся личным опытом или философскими подходами Д.Т. Судзуки, но имел и вполне различимую социополитическую составляющую. В Японии нового времени быстрыми темпами формировалась современная нация и национальное само-осознание, доходящее иногда до крайних форм национализма, нашедших выражение, например, в теории «японской исключительности». В ходе этого процесса неизбежно вставал вопрос о поиске неких общих принципов или идей, которые могли бы считаться объединяющими японцев в единую нацию, в «тело страны», кокутай4.
Судзуки видел базовую черту японского мировидения в не-двойственном восприятии действительности, проявляющемся в опыте дзэнского сатори . Из других буддийских идей, определивших специфику японского национального сознания, часто называлась также концепция «исконной просветленности» ( хонгаку ), одна из самых оригинальных религиозно-философских разработок японского буддизма. По мнению некоторых исследователей, установка на «исконную просветленность» определяет своеобразие японского буддизма, его согласие с насущной действительностью, стремлением жить здесь и сейчас [8, с. 6]. Однако в любом случае подобный «монистический», унифицирующий взгляд, обращенный в прошлое, неизбежно упрощал и сглаживал сложную мозаику религиозных школ и учений японского средневековья. Буддизм Чистой Земли при таком подходе неизбежно подвергался сильной деформации, поскольку имел ряд черт, значительно отличающих его от других буддийских направлений.
По нашему мнению, одной из таких важных деформаций является толкование у Д.Т. Судзуки центрального понятия учения Синрана веры-синдзин, у самого Синрана означавшего акт взаимодействия двух лиц – человека и будды Амиды. Д.Т. Судзуки фактически превратил веру в общебуддийский гнозис, акт «правильного знания», в ходе которого человек осознает свое единство с Буддой в его высшем космическом теле и тем самым обретает спасение. Такой подход был воспринят впоследствии рядом исследователей, свидетельством чего является возникшая в конце 1970-х гг. дискуссия о правильном переводе понятия синдзин на английский язык [12].
Кроме того, заслугой Д. Т. Судзуки можно считать то обстоятельство, что его работы представили Син-буддизм как серьезную аутентичную буддийскую школу, составляющую определенного рода дополнение к Дзэн-буддизму, и популяризовали само понятие Син-буддизма у заинтересованного западного читателя.
Список литературы Интерпретация учения синрана и школы син в работах Д.Т.Судзуки
- Джеймс У. Многообразие религиозного опыта: Исследование человеческой природы. М.: Академический проект, 2017.
- Джинджолия Б.И. Концепция просветления в учении Д.Т. Судзуки: теория и практика вопрошания: дисс.. канд. филос. н. Екатеринбург, 2004.
- Джинджолия Б.И. Син-буддийское нэмбу-цу в трактовке Д.Т. Судзуки // Восток на Западе: материалы научных конференций, посвященных Году Индии в России. Владимир: Изд. Вла-дим. гос. ун-та, 2009. С. 15-21.
- Молодяков И.Э. Япония в меняющемся мире. Идеология. История. Имидж. М., 2011.
- Дзэн-Буддизм. Судзуки Д.Т. Основы Дзэн-Буддизма. Кацуки С. Практика дзэн. Бишкек, 1993.