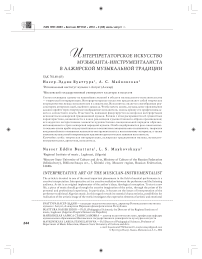Интерпретаторское искусство музыканта-инструменталиста в алжирской музыкальной традиции
Автор: Буаттура Насер-Эддин , Майковская Л.С.
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Искусствознание
Статья в выпуске: 4 (60), 2014 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена одному из важнейших явлений в области музыкального исполнительства - творческой интерпретации. Интерпретаторское искусство представляет собой творческое посредничество между исполнителем и слушателем. Исполнитель является своеобразным реализатором авторских идей, идейного замысла. Чтобы начать жизнь, музыкальное произведение должно пройти через творческое воображение исполнителя, сквозь призму его профессионального и личностного опыта. В частности, внимание фокусируется на вопросах интерпретации исполнителем алжирской традиционной музыки. В связи с этим раскрываются её сущностные характеристики, возможности в плане реализации художественного образа произведения; исследуются экспрессивные элементы художественно-эмоциональной передачи образноинтонационного строя алжирской народной музыки. Особо подчёркивается роль накопленного веками опыта арабо-андалузской школы в воспитании эмоционально осознанного, творчески воодушевлённого отношения музыканта-инструменталиста к исполняемому материалу, а также значение музыкальной импровизации в развитии артистических навыков исполнителя.
Творческая интерпретация, алжирская традиционная музыка, музыкант-инструменталист, артистизм, исполнитель
Короткий адрес: https://sciup.org/14489798
IDR: 14489798 | УДК: 781.68
Текст научной статьи Интерпретаторское искусство музыканта-инструменталиста в алжирской музыкальной традиции
Nasser Eddin Buattura1, L. S. Maykovskaya2
1Regional Institute of music , Laghouat, (Algeria)
2Moscow State University of Culture and Arts, Ministry of Culture of the Russian Federation (Minkultury), Bibliotechnaya str., 7, Khimki city, Moscow region, Russian Federation, 141406
INTERPRETATIVE ART OF THE MUSICIAN-INSTRUMENTALIST
The article is devoted to one of the most important phenomena in the field of musical performance is a creative interpretation. Interpretative art is a creative mediation between the performer and the listening audience. Artist is an original implementer of the author's ideas, ideological conception. To start a new life, a piece of music should go through the creative imagination of the artist, through the prism of his personal and professional experience. In particular, it focuses on the issues of interpretation of the performer traditional Algerian music. In this regard reveals its essential characteristics, possibilities for realization of the artistic image of the work; investigates the expressive elements of artistic and emotional
БУАТТУРА НАСЕР-ЭДДИН — кандидат педагогических наук, директор Регионального института музыки г. Лагуат, Алжирская Народная Демократическая Республика
BUATTURA NASSER EDDIN — Ph.D. (Pedagogical Sciences), the Director of the Regional Institute of music, Laghouat (Algerian People's Democratic Republic)
МАЙКОВСКАЯ ЛАРИСА СТАНИСЛАВОВНА — доктор педагогических наук, профессор кафедры музыкального образования Московского государственного университета культуры и искусств
MAYKOVSKAYA LARISA STANISLAVOVNA — Full Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of Department of Music Education, Moscow State University of Culture and Arts
transmission figuratively-intonational structure of the Algerian folk music. Especially emphasized is the role of the experience gained over centuries of Arab-Andalusian school in the education of the emotionally-conscious, creative inspiration relations instrumentalist musician to the executable material, as well as the importance of musical improvisation in the development of artistic skills of the performer. Keywords: creative interpretation, traditional Algerian music, musician-instrumentalist, artistry, performer.
Миссия интерпретатора — не только чтение и «перевод» авторского текста. «Чтобы воспроизвести большого мастера, вернуть ему жизнь, — писала Маргарита Лонг, — исполнитель должен некоторым образом создать его заново» [2, с. 230—231]. Преломляясь в восприятии исполнителя, музыка приобретает новые качества, характерные только для него, находя своё отражение в динамичности создаваемого им художественного образа. Исполнительский анализ сочинения включает:
-
• постижение интонационной сущности музыки, логики её становления и закономерностей развития;
-
• выявление средств выразительности, соответствующих музыкальному образу;
-
• отработку нужных исполнительских приёмов;
-
• нахождение собственной исполнительской интонации произведения и контроль за соответствием индивидуальной интерпретации замыслу народной музыки.
Таким образом, «составной» частью становления и реализации исполнительской концепции является постижение смысла использованных средств выражения и выяснение того, почему они служат созданию художественного образа произведения. Нельзя прийти к полноценному восприятию и переживанию традиционной музыки без её понимания, без уяснения её образно-выразительных средств. Исполнитель-инструменталист создаёт звуковой образ, который подвергается тщательному анализу — фактурному, технологическому и т.д., в результате чего художественный образ постоянно обогащается, становится понятным. Со временем такие умения «переплавляются» в профессионально важные качества лично- сти, в том числе развиваются артистические способности.
Для алжирской традиционной музыки характерна внешняя «неброскость» мелодико-интонационной линии, которая прекрасно уживается с яркой выпуклостью ритмического ряда. В этом видится бескрайний простор для проявления художественной фантазии через артистический показ внутренне экспрессивных состояний, запечатлённых в «образе» авторского комментария чтеца-рассказчика, подкрепляемого «хором» инструментальных голосов — его полноправных соучастников.
Понятно, что столь прихотливая ритмика, претворяемая на свой лад в каждом интерпретаторском «прочтении» вошедших в обиход вокально-инструментальных композиций и преображаемая с помощью индивидуально прочувствованных мелодических оборотов, нюансов фразировки, артикуляции, агогики и т.п., требует от музыканта определённого эмоциональнохудожественного настроя в отношении извлекаемых на инструменте звуков, а вхождение в то или иное артистическое «амплуа» значительно облегчает задачу объединения выразительных элементов в единое целое. И здесь опыт старых мастеров, в частности арабо-андалузской школы, может сыграть немалую роль в воспитании эмоционально осознанного, творчески воодушевлённого отношения к исполняемому материалу, где средствами сольного или коллективного «обыгрывания» музыкально-поэтических идей протягивается незримая нить между всеми участниками визуально-слухового представления.
Выступая своего рода «путеводителем» по «лабиринтам» музыкально-артистиче- ского высказывания, подобный эмоционально-художественный опыт, пронесённый через многие поколения, вне всяких сомнений, может пригодиться любому исполнителю, практикующему какой-либо исполнительский стиль, даже если он и не имеет непосредственного отношения к музыке устной традиции. Тем самым обеспечивается доступ к неустанному совершенствованию техники использования основных приёмов музыкальной выразительности, становится возможным поиск иных, ещё более действенных способов проявления творческой индивидуальности.
Причём вне зависимости от жанровой принадлежности составляющих фольклорное наследие коренного населения Алжира образцов, они, как правило, отличаются развитым инструментальным сопровождением, а отдельные из них, в силу явно танцевального происхождения, складываются в небольшие по объёму циклические построения, с участием более или менее самостоятельных партий-голосов. Варьируемые в пределах узкого диапазона интонационные попевки в подобного рода «инструментальных» по своему характеру мелодиях обычно обнаруживают тесную зависимость от тех или иных ладовых признаков, где, например, присутствие элементов дорийского лада существенным образом обогащает выразительность ритмически подвижного мелодического рисунка. Это далеко не единственный случай использования на практике ладовых закономерностей, вызывающих очевидные параллели со старинными диатоническими ладами западноевропейской традиции. Но спешить с какими-либо выводами не приходится, исходя из глубинных взаимосвязей ладовых моделей, встречаемых в местных песнопениях, с восточной модальной техникой, что фактически делает их производными от арабских музыкальных звукорядов.
Естественно, что столь пристальный интерес, спровоцированный нами в отношении ладовых характеристик алжирского музыкального фольклора, нельзя назвать случайным. Сказанное является очередным подтверждением того, что каждый художественный элемент, трактуемый в контексте артистической индивидуальности исполнителя, будучи «схваченным» последним, как на осознанном, так и на интуитивном уровне, может стать важным составляющим звеном в цепи накопленных за долгий исторический период исполнительских приёмов. Сложившийся на этой основе музыкальноколлективный опыт, бесспорно, обеспечивает наилучшие условия для гармоничного единения субъекта творческих изъявлений с объектами его искусства.
В данном случае ладовая «грамотность», совсем не обязательная для традиционного импровизатора, вовлечённого с детских лет в игру светотеней в красочных ладовых оборотах, окажется для любого другого музыканта своего рода связующей «аркой» к более глубокому пониманию стилевого своеобразия «памятников» музыкальной культуры своего народа, а через него — к возможностям использования полученного знания в рамках собственного артистического опыта музыкальной интерпретации. Ведь даже самое незаметное, на первый взгляд, смещение ладовых устоев внутри музыкальной композиции, продиктованное созидательной волей народного вдохновения, на деле может превратиться в важный экспрессивный элемент художественно-эмоциональной передачи её образно-интонационного строя, что, в свою очередь, потребует от исполнителя, достаточно умело владеющего своим инструментом, определённой артистической «закалки» в оперировании способами музыкального выражения.
И, наконец, наше «вторжение» в зону песенно-танцевальной стихии алжирского народа было бы малорезультативным без упоминания некоторых особенностей её метро-ритма, роль которого здесь столь же важна, как и в других стилевых разновидностях национального музыкального искусства.
Так, очевидная привязанность к собственным ресурсам нескончаемого ритмического варьирования сочетается в фольклорных мотивах с нарочито подчёркнутыми, по-вос-точному витиеватыми мелодическими линиями, с их узорчатыми ритмами, терпкими метрическими акцентами и т.д. Где же, как не на юге страны, что, по-видимому, в какой-то степени объясняется территориальной близостью Алжира к государствам Южной Африки, можно встретить такое умопомрачительное изобилие имеющихся в природе как музыкальных, так и внемузы-кальных ритмов?
Пряные, завораживающие своей несколько монотонной манерой воспроизведения ритмические последовательности находят исчерпывающее выражение в магической зрелищности народных плясок, сопровождаемых пением и игрой на традиционных музыкальных инструментах, таких как дер-бука, бендир (большой бубен), галал (местная разновидность ная) и др. При этом острота ритмической пульсации вкупе с неограниченной метрической свободой нередко усиливается за счёт необычных размеров.
Кроме того, в отдельных случаях можно соприкоснуться и с таким симптоматичным явлением, как полиритмия, организованная по принципу насыщения исходной ритмической ячейки другими, производными от неё инструментальными голосами, что, в целом, создаёт необыкновенный эффект чёткой скоординированности общемузыкального движения, как бы сфокусированного на одном эмоциональном состоянии.
Именно в такие редкие минуты вдохновенного «полёта» творческой фантазии способность интерпретатора «эмоционально идентифицироваться» с исполняемой им музыкой, как неотъемлемый признак его самосовершенствования в русле музыкально-артистического высказывания, достигает своего кульминационного развития. Имея определённые задатки «аффективной» памяти, благодаря заложенному в ней потенциалу, исполнитель может зна- чительно продвинуться в данном направлении, тренируя свои артистические навыки в области музыкальной импровизации. В качестве основы могут выступить самые наипростейшие, уже апробированные в художественной практике варианты одной ритмической формулы из какой-либо фольклорной мелодии.
Трудно было бы не усмотреть во всех этих метроритмических, а также родственных им мелодико-интонационных, ладовых комбинациях то музыкально-артистическое мастерство в виртуозном обращении с ценнейшим материалом, которое оставили нам в дар далёкие предки, проложившие стезю в мир уникального сотворчества разных индивидуальностей и художественных дарований.
Те же, кому выпала исключительная возможность влиться в этот беспрерывный процесс, где всякое соучастие в нём, осуществляемое прямым или косвенным путём, ведёт к активному преобразованию творческой личности, смогут рано или поздно проявить своё сущностное Я посредством внутреннего «диалога» с любой звуковой реальностью в бесконечной череде окружающих музыкально-эстетических впечатлений.
В целом, говоря словами Пабло Казальса, «именно преданность музыке, благоговейное преклонение перед ней позволяют артисту мгновеньями видеть высоты, на которых царит творческий гений» [цит. по: 1, с. 17]. А это вновь и вновь убеждает нас в том, что, какими бы архаическими ни казались ритмы или интонации, извлекаемые с большей или меньшей долей артистизма на каком-либо традиционном инструменте, — все они, указывающие на их принадлежность к тому или иному виду национального музыкального фольклора и постигаемые в художественно-исполнительских целях, так или иначе возвышают нас над уровнем обыденного восприятия. Всё это становится возможным благодаря сконцентрированной в них энергии непрерывного и качественного обновления, подтверждающего универсаль- ность всеобъемлющего тезиса «единство в многообразии» и лежащего в основе любого творчески направленного, индивидуаль- но выраженного и эмоционально осмысленного действия, которым был и остаётся проявляемый в звуках музыкальный артистизм.
Список литературы Интерпретаторское искусство музыканта-инструменталиста в алжирской музыкальной традиции
- Кан А. Радости и печали. Размышления Пабло Казальса, поведанные им Альберту Кану. Москва, 1977. 290 с.
- Французская школа фортепиано//Выдающиеся пианисты-педагоги о фортепианном искусстве. Москва; Ленинград: Музыка, 1966. 208-235 с.