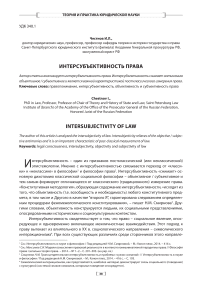Интерсубъективность права
Автор: Честнов И.Л.
Журнал: Вестник Академии права и управления @vestnik-apu
Рубрика: Теория и практика юридической науки
Статья в выпуске: 2 (39), 2015 года.
Бесплатный доступ
Автор статьи анализирует интерсубъективность права. Интерсубъективность снимает антиномию объективное / субъективное и является важной характеристикой постклассического измерения права.
Правопонимание, интерсубъективность, объективность и субъективность права
Короткий адрес: https://sciup.org/14120067
IDR: 14120067
Текст научной статьи Интерсубъективность права
И нтерсубъективность – один из признаков постклассической (или неклассической) эпистемологии. Именно с интерсубъективностью связывается переход от «классики» к «неклассике» в философии1 и философии права2. Интерсубъективность «снимает» основную дихотомию классической социальной философии – объективное / субъективное и тем самым формирует отличающееся от классического (традиционного) измерение права. «Конститутивная методология», образующая содержание интерсубъективности, «исходит из того, что объективность (т.е. всеобщность и необходимость) любого конститутивного предмета, в том числе и Другого в качестве “второго Я”, гарантирована следованием определенным процедурам феноменологического конституирования», – пишет Н.М. Смирнова3. Другими словами, объективность конструируется людьми, их социальными представлениями, опосредованными историческим и социокультурным контекстом.
Интерсубъективность свидетельствует о том, что право – социальное явление, опосредующее и одновременно включающее межличностные взаимодействия. Этот подход к праву вытекает из влиятельного в ХХ в. социологического направления – символического интеракционизма4. При всех существующих различиях среди сторонников этого направле- ния5, все они сходятся в том, что любое социальное явление (а значит и право) существует во взаимодействиях, опосредованных символическими медиа. При этом происходит замена представления об объективности права: от натуралистической реификации права в знаковых формах, свойственной классическим подходам, к типизациям и репрезентациям, воспроизводимым практиками людей.
С точки зрения сторонников символического интеракционизма, в частности, Дж. Г. Мида, «правила, которые кажутся внешними, представляют на самом деле достижение умственной структуры, которую Мид называет “Обобщенный Другой”. Это не просто принятие позиции какой-то конкретной другой личности, а постоянная способность разума, которая может принимать позицию всегосообщества.Это взглядзрителя на всюбейсбольную команду, где каждая роль смешана с другими. “Обобщенный Другой” – это основа сложной институционной кооперации, которая создает сам институт общества. Например, собственность – это не просто отношение человека к какой-то определенной вещи, а признание того, что это право человека в общем будет признано и другими»6. Тем самым проблематизируется самоочевидное для классической социогуманитарной мысли понятие – общество и социальная группа. Социальная реальность, по мнению А. Сикурела, – не некая объективная данность, а конструкция, процесс интеракций людей, воспроизводящий с помощью повседневной рутины социальные представления – ожидания действий Другого7. Для Дж.Г. Мида обобщенный Другой – это совокупность всех общих ожиданий, это социальные нормы и ценности общества, которые значимы в определенных ситуациях и в отношении социальных ролей. Можно сказать, что общество для него и есть всеобъемлющий обобщенный другой8. С точки зрения И. Гофмана, социум – это роли (статусы), с помощью которых человек представляет себя как самому себе, так и окружающим9.
«Нет такой вещи, как общество, – прозорливо заявила в свое время М. Тэтчер, – а есть отдельные мужчины, женщины и их семьи»10. Действительно, сегодня понятие «общество», ранее казавшееся самоочевидной данностью, стало одним из наиболее проблематичных в социальной философии, социологии, а тем самым, во всех социальных науках. Ни одно понятие не применяется так нерефлексивно, как понятие общества, утверждает И. Валлер-стайн11. Если «понятие общества имеет смысл, то лишь будучи встроенным в анализ системы обществ национальных государств»12. По мнению Н. Лумана, «гуманистические и региональные (национальные) понятия общества уже неспособны отвечать потребностям теории, – их жизнь продолжается всего лишь благодаря словоупотреблению. Тем самым современная социологическая теория оставляет ощущение раздвоенности, выглядит двуликим Янусом: она использует концепции, еще не разорвавшие связь с традицией, но уже делает возмож- ными вопросы, которые могли бы взорвать рамки последней»13. Главная проблема классической социологии, по убеждению немецкого мыслителя, состоит в невозможности решить ловушку дихотомии реализм / номинализм, преследующую эту научную дисциплину на всем протяжении ее истории, т.е. ответить на вопрос: что объединяет людей в общество. Отсюда программа Н. Лумана вывести человека за границы понятия общество. В то же время следует заметить, что Н. Луман использовал этот прием (или образ) исключительно в аналитических целях: человек выносится за рамки коммуникации как системы, образующей содержание общества, чтобы удобнее было ее представить14.
Из проблематичности экспликации понятияобщество вытекают затруднения приопре-делении социальных институтов, социальных групп. Существуют ли социальные институты и социальные группы как некая данность, «вещь»? «Немногие понятия общественных наук представляются столь же базовыми и даже необходимыми, как понятие группы, – заявляет Р. Брубейкер. <...> “Группа” представляется беспроблемным, само собой разумеющимся понятием, которое будто бы не требует специального разбора или разъяснения. В результате мы начинаем считать само собою разумеющимся не только понятие группы, но и “группы” – мнимые вещи-в-мире, к которым относится это понятие»15. Отсюда вытекает «тенденция к пониманию этнических групп, наций и рас как субстанциальных сущностей, к которым могут быть приписаны интересы и деятельность»16. По мнению американского социолога, необходимо проводить четкое различие между группой и категорией: «Если под группой мы понимаем внутренне взаимодействующий,взаимно и сообща признающий,имеющий общую направленность, эффективно коммуницирующий ограниченный коллектив, который обладает чувством солидарности, корпоративной идентичностью и способностью к согласованному действию, и даже если мы придерживаемся менее жесткого понимания “группы”, должно быть ясно, что категория не есть группа. В лучшем случае она является базисом для образования группы или “групповости”.
Благодаря последовательно проводимому различию между категориями и группами мы можем осознать отношение между ними как проблему, а не как данность. Мы можем спросить о степени групповости, связанной с конкретной категорией в конкретной ситуации, и о политических, социальных, культурных и психологических процессах, посредством которых категории наделяются групповостью. Мы можем спросить, как люди – и организации – совершают действия с категориями . <...> Мы можем анализировать организационные и дискурсивные пути категорий – процессы, посредством которых они институционализируются и внедряются в административные порядки и вписываются во влиятельные в культурном и символическом отношении мифы, воспоминания и нарративы»17.
Действительно, проблема коллективных образований – социальных структур, способ их бытия – одна из самых острых в социальной философии. При этом от того или иного способа ее решения зависит ответ на вопросы бытия права, государства, нормы права, правового института и т.п. Обладают ли общеправовые категории (норма права, правоотношение, правонарушение и др.) собственным бытием, как, в какой (или каких) формах они существуют? Это один из важнейших и сложнейших вопросов философии права, который, как и другие философские вопросы, не имеет единственного (или единственно «верного») решения. «Философские проблемы отличаются от других, среди прочего, тем, – пишет И.Т.
Касавин, – что, не имея однозначного и окончательного решения, периодически приобретают и утрачивают актуальность, интерес для определенных групп людей под влиянием внешних или внутренних условий»18. С позиций современной постклассической эпистемологии19, социальных структур20, коллективных образований не существует как неких данностей или «вещей», а существуют отдельные люди, их совместные действия и представления, образы поведения как правильные / неправильные, эффективные / неэффективные и т.д. В то же время люди объединяются в социальные группы на основе некоторых общих представлений о желательности такого объединения или другого объединяющего фактора (часто это происходит неосознанно, например, в силу рождения). Поэтому социальная группа, а также и социальный институт – это представления (социальные репрезентации) о некотором единстве, общей идентичности21 определенной части людей22. Эти социальные представления, повторюсь, не есть объективная данность, обладающая собственным, внеиндивиду-альным бытием, субстанциональностью, целью и деятельностью, а представляют собой социальный конструкт, «воображаемые (т.е. сконструированные) сообщества»23. «Социальный мир, – писал К. Касториадис, – в каждом отдельном случае сформирован и структурирован в зависимости от системы ... значений и, однажды возникнув, они существуют в поле фактически воображаемого (или воображенного ) <...> Но что это и кто это – “мы”, группа, коллектив, общество? Прежде всего, это символ, знак своего существования, которым наделяет себя каждое племя. Прежде всего, это условное и произвольное имя, но в какой степени оно является условным и произвольным? Это означающее обозначает коллектив, но не как простое название, оно обозначает его и как понимание, как качество и свойство. <...> Имя в данном случае не ограничивается указанием, оно провоцирует определенные ассоциации, отсылающие нас к означаемому, которое не принадлежит и не может принадлежать ни плану реального, ни плану рационального. Означаемое в данном случае рождается в поле воображения, каким бы специфическим ни были содержание и природа этого воображения»24. Цель и деятельность, как и объективность, привносится в социальную группу (объединение людей) общественным сознанием, механизмом означивания (наделения значением) и их ин-териоризации в личностные смыслы. В основе процесса атрибутирования (или аскрипции) объективности бытия социальной структуры лежит механизм «амнезии происхождения» или «анкоринга» и «объективизации» социокультурной инновации.
Правовой институт отличается от других социальных групп степенью институционализации. Он конструируется во многих случаях государственной властью (особенно если речь идет о публично-правовых институтах) и существует как многократно повторяемое поведение, урегулированное нормами права. При этом ни один социальный (и правовой) институт не функционирует так, как он был задуман (К. Поппер). Это связано с тем, что правовой институт в процессе своего функционирования «обрастает» правовыми обычаями – массово опривыченными практиками.
Таким образом, общество, как и социальный (и правовой) институт – это интеракции, опосредованные социальными статусами или статусы, конструируемые и воспроизводимые интеракциями людей.
Юридически значимые действия предполагают соотнесение собственных интенций и действий с поведением социально значимого или обобщенного Другого, представленного эмпирически данным партнером взаимодействия. Право объективно не только потому, что предполагает формальную закрепленность, а тем самым определенность (важность чего не отрицается), но и потому, что существует в массовых практиках – интерсубъективных взаимодействиях людей в юридически значимых ситуациях. Эти практики с помощью механизма правовой социализации передаются от поколения к поколению и воспроизводятся в своей основной массе в силу правовых стереотипов, установок (аттитюдов). Этим не отрицается отсутствие рационального расчета в правоотношениях и их постоянная трансформация. Но большинство юридических интеракций – правоотношений – происходит как само собой разумеющиеся действия, особенно если они происходят «нормально», беспроблемно, и именно поэтому они представляются в массовом сознании (доксе) как некая объективная данность.
Как именно осуществляется конструирование и воспроизводство права? Интерсубъективная методология позволяет ответить на этот вопрос. Правовой институт, с точки зрения интерсубъективной методологии, представляет собой противоречивое единство (диалог) устойчивой структуры в виде относительно четко зафиксированного образа и многократно повторяющегося в прошлом массового поведения (объективное в праве) и конкретных индивидуальных представлений о нем, реализуемых в отдельных действиях (субъективный аспект права). Иными словами, он – правовой институт – субъективен в том смысле, что конструируется первичным единичным действием (например, представителя референтной группы или правящей элиты по объявлению какого-либо действия правомерным либо противоправным). В силу авторитета субъекта – носителя символического капитала, именующего некоторые действия в качестве правомерных либо противоправных, других обстоятельств (например, функциональной значимости определенного действия, подлежащего нормативной охране, – закрепления посягательства на него как противоправного, заимствования иностранного опыта и т. п.) происходит легитимация сконструированного социального мира (социального института, правила поведения), т. е. признание его широкими слоями населения и седиментация («осаждение», букв. «выпадение в осадок», т. е. в образцы традиционного поведения). Все это приводит к тому, что сконструированный правовой институт реифицируется и начинает восприниматься как объективная данность, природа вещей, естественная сущность. При этом социальная реальность (валидность) права возникает не в момент его официального провозглашения, а только после того, когда новое правило поведения трансформируется в правопорядок.
Интерсубъективность предполагает выявление юридических практик, которыми воспроизводится (как традиционно, так и инновационно) правовая реальность. Именно практики образуют содержание юридической догмы и позволяют показать механизм правовой институционализации. В юридических практиках происходит пересечение личностных ин- тенций (потребностей, интересов, целей) с требованиями институций. Правовая культура производит социализацию человека – носителя статуса субъекта права, актора, и включает его в механизм воспроизводства системы права. Тем самым интерсубъективность акцентирует внимание на динамичности и процессуальности вместо статичности права.
Суть интерсубъективности применительно к юриспруденции состоит в том, что право существует только в том случае, если оно (его знаковое выражение) действует, т.е претворяется в практиках людей – носителей правовых статусов. Действие (а значит – и бытие) права – это поведение и ментальные (психические) активности людей, взаимодополняющие и взаимообусловливающие друг друга как идеальное (психическое) значение и персональный смысл дополняет практическое действие и его результат. Соотнесение своего представления, выраженного в ожидании, с нормой права – обезличенным (обобщенным и социально значимым) Другим (его образом), воплощаемым персональным человеком и типизированной ситуацией – и реализация его (представления – ожидания) в юридически значимом поведении и есть бытие права.
Такой подход предполагает переосмысление практически всех юридических категорий с формально-догматической на коммуникативно-практическую. Система права, в таком случае, – это ментальные представления (и ожидания), воплощаемые в массовые практики в масштабах социума, соотносимые с господствующими (официальными) системами знаков. При этом действия и социальные представления референтной группы конструируют и трансформируют систему знаков (законодательство). То же самое касается и отдельной нормы права: это социальное представление, выражающее правовые статусы применительно к типовой ситуации и их воплощение в массовых практиках. Важно иметь в виду, что социальные представления и практики складываются из представлений и действий отдельно взятых индивидуумов и включают их личностное, неявное (или фоновое) знание. Механизм преломления законодательства в социальные представления и господствующие практики всегда соотносимый с этим личностным знанием должен стать объектом пристального внимания коммуникативной теории (социологии) права, если она претендует на то, чтобы стать основой практической юриспруденции.
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что право – это сложное, многогранное социальное явление, которое существует (проявляется), прежде всего, в интерсубъективных взаимодействиях, как ментальных (психических), так и фактических, в которых формируются знаковые формы права и которые их реализуют (воспроизводят).
Список литературы Интерсубъективность права
- Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. - М.: Канон-пресс-Ц; Кучково поле, 2001. - 288 с.
- Брубейкер Р. Этничность без групп. - М.: ИД ВШЭ, 2012. - 408 с.
- Девятко И.Ф. Социологические теории деятельности и практической рациональности. - М.: Аванти плюс, 2003. - 336 с.
- Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. - М.: Канон, 1995. - 352 с.
- Интерсубъективность в науке и философии / Под редакцией Н.М. Смирновой. - М.: Канон плюс, 2014. - 416 с.