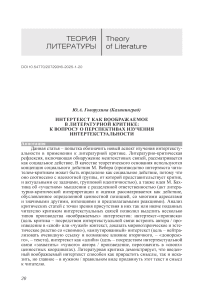Интертекст как воображаемое в литературной критике: к вопросу о перспективах изучения интертекстуальности
Автор: Говорухина Ю.А.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Теория литературы
Статья в выпуске: 1 (72), 2025 года.
Бесплатный доступ
Данная статья - попытка обозначить новый аспект изучения интертекстуальности в применении к литературной критике. Литературно критическая рефлексия, включающая обнаружение межтекстовых связей, рассматривается как социальное действие. В качестве теоретического основания используются концепция социального действия М. Вебера (производство интертекста читателем критиком может быть определено как социальное действие, потому что оно соотнесено с идеологией группы, от которой представительствует критик, и актуальными ее задачами, групповой идентичностью), а также идея М. Бахтина об «участном» мышлении с разделенной ответственностью (акт литературно критической интерпретации и оценки рассматривается как действие, обусловленное определенной ценностной позицией, со многими адресатами и значимыми другими, интенциями и предполагаемыми реакциями). Анализ критических статей с точки зрения присутствия в них так или иначе поданных читателю критиком интертекстуальных связей позволил выделить несколько типов производства «воображаемых» интертекстов: интертекст «прописка» (цель критика - посредством интертекстуальной связи встроить автора / произведение в «свой» или «чужой» контекст, доказать мировоззренческое и эстетическое родство со «своими»), «ампутированный» интертекст (цель - нейтрализовать очевидную ссылку и возможное влияние вторичного, - «донорского», - текста), интертекст как «алиби» (цель - посредством интертекстуальной связи «захватить» «чужого» автора / произведение, переозначить в «своих» ценностных координатах). Литературная критика демонстрирует, что введенный воображаемый интертекст способен как прирастить смыслы, так и исказить, но главное - в нужном / правильном виде продвинуть этот текст и смысл к читателю.
Интертекстуальность, литературная критика, социальное действие, приращение смысла, смыслопорождение, поле литературы
Короткий адрес: https://sciup.org/149147776
IDR: 149147776 | DOI: 10.54770/20729316-2025-1-20
Текст научной статьи Интертекст как воображаемое в литературной критике: к вопросу о перспективах изучения интертекстуальности
Intertextuality; literary criticism; social action; increase in meaning; meaning generation; literary field.
Литературоведческие работы, посвященные интертекстуальности, могут быть разделены на группы, различающиеся выбранным исследовательским ракурсом. Первый предполагает сближение с позицией автора, реконструирование его работы по значимому насыщению текста интертекстуальными связями и изучение того, как «смысл художественного произведения полностью или частично формируется посредством (авторской) ссылки на иной текст» [Смирнов 1995, 11]. При этом акцентируется значимость автора как субъекта сознания в порождении интертекстуальных связей (см.: [Напцок, Соколова 2018; Еременко 2012; Москвин 2013] и др.). Так, И.П. Смирнов утверждает: онтологичность метода интертекстуального анализа подразумевает, что «интертекст конституируется в качестве продукта не рецепции разбираемого текста, но процесса текстопорождения» [Смирнов 1995, 6].
Второй ракурс предполагает понимание читателя как смыслопорождающей инстанции. Отсюда и представление о том, что именно читатель порождает интертексты. Так, М. Риффатер утверждает, что интертекст – это продукт процесса чтения, и называет читательскую память единственным условием наличия интертекста [Riffaterre 1979].
Несмотря на, казалось бы, разнонаправленные исследовательские парадигмы, оба типа исследований имеют общее основание. В том и в другом случае круг «донорских» текстов в конечном счете определяет читатель со своим бэкграундом, который либо приписывает интертекстуальные связи тексту / автору, либо допускает свободу их порождения. В любом случае возможен эффект интертекстуальности «без берегов», о котором писала Ю. Кристева [Кристева 2000], акцентируя внимание на интертекстуальности как фундаментальном свойстве текста. Такая широта / безбрежность по-разному оценивается литературоведами. По мнению Л.Г. Кихней, «интертекстуальный метод оказывается в этом случае псевдонаучным “алиби” для субъективно-импрессионистического прочтения текстов» [Кихней 2013, 47]. Понятными становятся попытки ограничить объект. В.П. Москвин предлагает ограничить предложенную Ж. Женеттом классификацию интертекстуальности и вводит в качестве критерия риторическую функцию, исключающую случайность [Москвин 2013, 16]. Л.Г. Кихней оперирует критериями сознательности заимствования и явности отсылки к чужому тексту [Кихней 2013, 47].
В то же время критерии, предлагаемые исследователями, не универсальны. Запланированность, осознанность и явность отсылки к чужому тексту субъективны, так как оперирует ими читатель, которому свойственно приписывать автору обнаруженные параллели, определять степень осознанности и явности присутствия отсылки.
Понимая и принимая усилия исследователей, направленные на то, чтобы снять широту использования термина, должны признать, что именно «безбрежность» может оказаться продуктивной установкой, если мы изучаем литературно-критическую рефлексию в аспекте социального действия.
В название статьи вынесено слово «воображаемое», которое, на наш взгляд, отражает процесс порождения интертекста читателем и в том числе все его / наши усилия по обнаружению интертекста и завершению смысла. Даже если читатель видит прямую цитату, уходя во второй текст, он задействует образный план в своем сознании – уникальную картину, созданную в процессе уникального читательского акта. Этот интереснейший феноменологический аспект осмысления интертекста еще недостаточно изучен литературоведением. Нас же интересует другое возможное направление изучения темы – интертекст как социальное действие.
Рассмотрим фрагмент критической статьи Н. Переяслова, М. Переяс-ловой «Над разливом “вешних вод” (Обзор книг писателей орловской земли)»:
Нельзя не увидеть и определенной симпатии автора к такому «культовому» для сегодняшней молодежи писателю, как Виктор Пелевин, воспеваемый которым образ ПУСТОТЫ то и дело залетает в стихи Владимира Ермакова: «Кто стоял на часах до меня, / охраняя в себе пустоту?»; «Все, что пусто – голо» <…>. Встречаются и более точные смысловые переклички. Вот Виктор Пелевин, роман «Священная книга оборотня», стр. 259: «Птичка вовсе не славит Господа, когда поет, это попик думает, что она Его славит». А вот Владимир Ермаков, «Безвременник», стр. 27:
«Ходят по лесу ветра напролет. / Все прозрачней дерева день за днем. / В горьких сумерках пичужка поет, – / хвалит Господа, не зная о Нем». (Кто тут на кого повлиял, неважно, важно, что это влияние существует) [Переяслов, Переяслова 2005, 280].
«Священная книга оборотня» была издана в 2004 г., сборник В. Ермакова – в 2001 г., статья Переясловых – в 2004 г. Интертекстуальность, скрупулезно зафиксированная авторами, очевидно, не могла быть запланированной автором, но присутствует в воображении критиков, которым важно вписать эстетически чужого автора в чуждый контекст. Это последнее намерение, реализующееся в тексте как действие, позволяет по-новому осмыслить интертекстуальность.
Теоретически описать это явление помогают следующие концепции:
-
1. Концепция социального действия М. Вебера, который определяет социальное действие как акт, который по смыслу соотносится с действиями других людей и ориентируется на них. Его признаки – осмысленность, ориентация на ожидающую реакцию других, возможность реконструировать мотив [Вебер 2016, 68, 82].
-
2. Идея «участного» мышления М. Бахтина [Бахтин 2003]. Акт познания рассматривается ученым как ответственный поступок, который всегда имеет в виду других как потенциальных свидетелей. Эта мысль перекликается с веберовским пониманием социального действия как действия, ориентированного на другого.
Производство интертекста читателем-критиком может быть определено как социальное действие, поскольку это действие, соотнесенное с идеологией группы и актуальными ее задачами, идентичностью, направленное на ожидаемую реакцию одобрения.
Осмысливая поступок феноменологически и аксиологически одновременно, М. Бахтин не упускает социальных оснований ответственности и развернутости поступка к значимому другому. Акт литературно-критической интерпретации и оценки (включая проведение интертекстуальных параллелей) может быть рассмотрен как действие, обусловленное определенной ценностной позицией, со множеством адресатов и значимых других: читатель, писатель, другие писатели, «свои» критики, «чужие» критики – а следовательно, со множеством интенций и предполагаемых реакций.
Идея ответственного поступка важна нам в осмыслении производства читателем-критиком интертекстуальности как воплощенного способа отношения к бытию с «разделенной» ответственностью.
Интертекстуальность предполагает веру писателя в наличие общей с читателем памяти. В случае с литературной критикой это утверждение может быть перенесено и на критика, интертекстуальные связи (в том числе воображаемые) для которого часто оценочны, идеологически функциональны, прагматически заряжены. Критик также надеется на существование общей с его читателем памяти. И в этом случае мы получаем в качестве объекта описания интереснейший феномен. Читатель художественного текста, распознавая интертекст, в идеале осуществляет процедуру завершения, встраивания его в идейный и структурный план текста. Читатель критической статьи тоже в каком-то смысле завершает завершенное критиком: вписывает рефлексию интертекста, представленную критиком, в идейный контекст статьи, соотносит с другими содержательными фрагментами, с позицией журнала, формулируя свое отношение к оценке критика как близкой («своей») или неприемлемой («чужой»).
Анализ критических статей с точки зрения присутствия в них так или иначе поданных читателю критиком интертекстуальных связей позволил выделить несколько типов производства воображаемых интертекстов (перечисленные ниже типы не исчерпывают всего многообразия действий критика в данном направлении; имеют место интертексты-обвинения, интертексты-знаки имперскости и др.). В определениях используются метафорические номинации-пояснения, схватывающие целеполагание и планируемый результат манипуляции интертекстом.
Интертекст-«прописка». Ц ель критика – посредством интертекстуальной связи встроить автора / произведение в «свой» контекст, доказать мировоззренческое и эстетическое родство со «своими».
Так, Н. Егорова в статье «Из глубин бытия до горящей звезды доставая...» сближает в плане поэтики Н. Коновского и Ф. Тютчева, А. Фета, при этом замечая родство внутренней космогонии его художественного мира и космогонии Н. Клюева, называет писателя последователем «любомудров» и «тихих лириков». Тютчев и Фет как классики обладают символическим капиталом для критиков-патриотов, однако они не являются однозначно «своими» из-за сознательного ухода от актуальной социальной проблематики в сферу чувств, мимолетного, увлечения формой. Обратим внимание на это типичное для патриотической критики замечание: «…но внутренняя космогония его поэтического мира глубоко народна» [Егорова 2020]. Внутреннее всегда означивается патриотами как более истинное, как то, что оправдывает видимое несовпадение со «своим». Эстетическая и мировоззренческая параллель как широко понятый интертекст используется в качестве способа укрепления автора в «своем» литературном поле. Сцепив поэтику Н. Коновского с поэтикой «своих» писателей, критик осуществляет социальное действие «прописки», оглядываясь на группу, на значимые символические составляющие коллективной идентичности.
Подобным образом В. Бондаренко в статье «Певец поморья» доказывает народность П. Кренёва, сближая его творчество со «старшими северными собратьями» («…потому Павел Кренёв — самый настоящий народный писатель. Как и его старшие северные собратья: Федор Абрамов, Василий Белов, Владимир Личутин...» [Бондаренко 2018]), М. Ершов пишет об укорененности прозы А. Громова «в многообразии отечественной литературной традиции» («Проза Александра Громова – явление серьезное. Творчество его глубоко укоренено в многообразии отечественной литературной традиции – от “Охотничьих рассказов” Л. Толстого, уже упомянутых Лескова и Булгакова через Алексея Толстого и Чехова до Распутина и Крупина» [Ершов 2017]).
Обратная стратегия – встроить произведение / автора в чуждый эстетически или идейно контекст посредством интертекстуального «сшивания» с такими его (контекста / литературного поля) позициями, которые наделены символическим капиталом. Так, В. Аверьянов в статье «“Рок” в овечьей шкуре» пишет о роковой зависимости Б. Гребенщикова1 от англосаксонской контркультуры, которая определила безнравственную позицию поэта, заявляющего о готовности воспользоваться плодами деятельности инакомыслящих («В этом смысле стратегия Гребенщикова противоположна стратегии Пушкина, аллюзией на которого (стихотворение “Не дорого ценю я громкие права...”) данная песня [«Блюз простого человека» – Ю.Г.] является» [Аверьянов 2019]. Критик объясняет аллюзию сознательной оппозицией: отказ лирического героя Пушкина от общественных условий, политических институтов и социальных ролей в пользу права на свободу как физическую, так и духовную – и подобный отказ героя Гребенщикова от общественного в пользу физического существования, в интерпретации критика, допускающего паразитическое потребительское поведение. В этом критик видит проявление эгоцентризма европейских ценностей.
Востребованной такая стратегия была в советской официальной критике. Так, Д. Данин в статье «Пути романтики (заметки о поэтах-архаистах, порочном романтизме и революционной романтике)» создает образ В. Шефнера как последователя «порочного романтизма», противоположного революционно-романтическому началу социалистического реализма, сближая его поэтику с поэтикой О. Мандельштама: «Не деятельный участник творимой на его глазах истории, а созерцатель. Не борец, а меланхолический потребитель»; «… его лирика часто слепо плетется по следам мандельштамовской реакционной метафизики» [Данин 1947, 167].
«Ампутированный» интертекст. Цель критика – нейтрализовать очевидную ссылку и возможное влияние вторичного («донорского») текста.
Привлечение автора, обладающего символическим капиталом, в поле «своих» авторов нередко сопряжено с сопротивлением материала, преодоление которого может происходить и посредством нейтрализации очевидной интертекстуальной отсылки. Так, И. Ростовцева в статье «Область наивысшей красоты. О поэзии Сергея Гонцова» комментирует название раздела поэтического сборника С. Гонцова «Столбцы»:
Как известно, это название первой книги поэм Николая Заболоцкого 1929 года, вошедшей в историю русской литературы XX века как образец авангардного искусства <…> Он [Гонцов – Ю.Г. ] наследует «Столбцы» не в плане подражания поэтике приема Заболоцкого, что сплошь и рядом встречается у современных авторов неомодерна, а именно как жанр. <…> Это книга – событие, но не в поэзии неомодернизма. Она идет с другим эстетическим знаком [Ростовцева 2016].
Очевидная отсылка к Н. Заболоцкому может направить читателя на проведение не только формальных, но и содержательных параллелей, сблизить творчество поэтов. Отсюда важность ослабить выстраиваемую поэтом параллель, формализовать ее, определить как ошибочный путь сближения поэтов в плане эстетики. Ростовцева акцентирует внимание на факте наследования жанру, но не приему, не эстетике. Жанр менее персоналистичен, его влияние безоценочно.
А. Баженова в статье «Поэма кайфа и муки совести» нейтрализует возможное сближение Вен. Ерофеева и В. Распутина в сознании читателя («…и там и там алкоголик едет по железной дороге. И там и там автор описывает его душевное состояние и внешний мир, который разворачивается вокруг него») указанием на разность мировоззрений героев, их представлений о России и ее истории, на разнонаправленность движения героев (в сторону Запада и от него): «Вот и “пути правдоискательства” героев Ерофеева и Распутина разительно отличаются именно потому, что у остроумно кайфующего Венички и задыхающегося в тяжелом запое бича разные представления о правде-рае» [Баженова 2005].
Этот акт «ампутации» интертекстуальной связи также может быть квалифицирован как социальный, так как предполагает апелляцию к ценностям группы, традиционным для нее механизмам конструирования своего литературного поля и воздействия на читателя. Критик и оправдывает «своего» автора, и конструирует сценарий читательской рецепции.
Интертекст как «алиби». Цель критика – посредством интертекстуальной связи «захватить» чужого автора / произведение, переозначить в «своих» ценностных координатах.
Воображаемые интертекстуальные связи могут стать способом переозна-чивания «чужого» автора или текста, обладающего символическим капиталом, в «своего» (подробнее о стратегии захвата в литературной критике см.: [Говорухина 2012]). Чаще всего эту стратегию использует В. Бондаренко. Например, пытаясь «прописать» И. Бродского в своем поле, он дискредитирует его либерально настроенных друзей и знакомых, окружает поэта «своими» писателями, акцентируя факт знакомства и эстетической близости:
Кстати, интересно, как почти в одно и то же время Иосиф Бродский и Станислав Куняев пишут стихи об отказе от поклонения перед учителями, перед тем же Борисом Слуцким. У Куняева – «Я предаю своих учителей» – жестко и решительно. У Бродского помягче – «Приходит время сожалений. / При полусвете фонарей, / при полумраке озарений / не узнавать учителей» [Бондаренко 2015].
Борьба за Бродского как за сильную позицию в «своем» литературном поле оказывается символически важной для социальной группы, от которой представительствует В. Бондаренко.
Выявленные типы воображаемых литературной критикой интертекстуальных связей в их прагматической заданности убеждают в том, что интертекстуальность может быть рассмотрена в социальном аспекте, как акт, который обусловлен групповыми ценностями и ориентирован на группу. Автор или произведение оказываются в этом случае объектом определенного ви́дения, предполагающего возможность наделения его необходимыми критику смыслами. Этот ракурс позволяет «воображать» интертекстуальные связи и привлекать те или иные «донорские» тексты.
Производство интертекста критикой можно рассматривать как прием со своей прагматикой и планируемой реакцией читателя в рамках той или иной стратегии литературного критика. «Прививка» к тексту воображаемой отсылки «запускает механизм трансформации потенциальной возможности генерирования новых смыслов <…> в реальность прагматического взаимодействия сознания и текста…» [Суханов 2019, 118], но генерирования, направленного критиком. Литературная критика демонстрирует, что введенный воображаемый интертекст способен как прирастить смыслы, так и исказить, но главное – в «нужном / правильном» виде «продвинуть» этот текст и смысл к читателю.