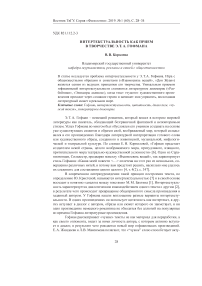Интертекстуальность как прием в творчестве Э. Т. А. Гофмана
Автор: Королева Вера Владимировна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 1, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется проблема интертекстуальности у Э. Т. А. Гофмана. Игра с общеизвестными образами и сюжетами («Взаимосвязь вещей», «Дон Жуан») является одним из ведущих принципов его творчества. Уникальным приемом гофмановской интертекстуальности становится литературное двоемирие («Разбойники», «Эликсиры дьявола»), когда текст «чужого» художественного произведения проходит через сознание героев и начинает ими управлять, воссоздавая литературный сюжет в реальном мире.
Гофман, интертекстуальность, цитатность, диалогизм, "чужой текст", литературное двоемирие
Короткий адрес: https://sciup.org/146281361
IDR: 146281361 | УДК: 821.112.2-3
Текст научной статьи Интертекстуальность как прием в творчестве Э. Т. А. Гофмана
Э. Т. А. Гофман – немецкий романтик, который вошел в историю мировой литературы как писатель, обладающий безграничной фантазией и неповторимым стилем. Успех Гофмана во многом был обусловлен его умением создавать на основе уже существующих сюжетов и образов свой, воображаемый мир, который складывался в его произведениях благодаря литературной интерпретации готового слова или художественного образа, созданного в живописной, музыкальной, мифологической и театральной культуре. По словам Е. И. Корниловой, «Гофман предстает создателем некой страны, целого воображаемого мира, причудливого, изящного, притягательного мира театрально-художественной условности» [6]. Один из Сера-пионовцев, Сильвестр, предваряя новеллу «Взаимосвязь вещей», так характеризует стиль Гофмана: «Канва моей повести <…> сплетена на этот раз из нескольких, совершенно различных нитей, и потому вам предстоит решить, насколько мне удалось их соединить для составления одного целого» [4, т. 4(2), с. 347].
В современном литературоведении такой принцип построения текста, по определению Ю. Кристевой, называется интертекстуальностью [7] и в своей основе восходит к понятию «диалога между текстами» М. М. Бахтина [1]. Интертекстуальность характеризуется диалогическим взаимодействием одного текста с другим [2], в результате чего происходит превращение общепринятого смысла произведения в заданный автором. У Гофмана нашли воплощение разные варианты интертекстуальности. В одних произведениях он использует цитатность как интертекст, в других вступает в диалог с автором, образы или сюжет которого он заимствует, и ни одно произведение немецкого романтика не обходится без аллюзий на популярные во времена Гофмана литературные произведения.
Гофман рассматривает «чужие» тексты не как материал для переработки, а как своего оппонента, видит за ними личность автора, с которым активно вступает в диалог, в результате чего рождается новый мир гофмановских произведений. Е. А. Жиндеева и Л. В. Максимова полагают, что «“чужое” слово способствует акту- ализации “другой”, “второй” реальности, с которой соотносится собственно авторский сюжет» [5, с. 17]. Действие в авторском тексте может происходить в другом художественном времени и пространстве, однако «между двумя художественными плоскостями всегда обнаруживается множество общих элементов (сходства в системе действующих лиц, сюжетных линиях, образах-символах и др.), в совокупности обеспечивающих внутреннюю целостность произведения» [Там же].
Гофман в своих произведениях не только не скрывал аллюзий и намеков из других источников, но и сознательно использовал их, преображая и обыгрывая по-своему. Игра с общеизвестными образами и сюжетами становится одним из ведущих принципов его творчества. Теория игры в мировоззрении романтизма была одной из ключевых и в своей основе имела теорию игры, созданную Шиллером, который утверждал: «Человек играет только тогда, когда он в полном значении слова человек, и он бывает человеком лишь тогда, когда играет» [10, т. 6, с. 241]. По словам Ф. И. Федорова: «Через игру с ее импровизацией совершается разрушение “конечности”, “формы”, замкнутости. В игре, в клоунаде каждый “конечный” предмет обретает ореол первозданной неоформленности, детскости, радости, свободы. Игра – это разрыв реальных, канонических отношений и создание новых ценностей. Оппозиция “реальность – игра” – это оппозиция “канон – творчество”, “несвобода – свобода”» [9, с. 32]. В результате такой игры с текстом у Гофмана формируется новый принцип творчества – переход из реального мира в мир сверхреальный.
Интертекстуальность как особенность творчества Гофмана уже отмечалась в литературоведении в работе Е. Н. Корниловой «“Параллельные миры” и техника интертекстуальности в сонатно-симфонической прозе Гофмана» [6]. Однако автор делает акцент преимущественно на музыкальную интертекстуальность в произведениях немецкого романтика. В центре нашего внимания – интертекстуальность как вариант двоемирия у Гофмана, когда сюжет другого произведения вклинивается в гофмановское повествование и становится его неотъемлемой частью. Этот интертекст может проявлять себя как литературная пародия, когда Гофман разрушает литературные стереотипы своего времени, создавая общеизвестные сюжеты перевернутыми. В этом случае предметом его критики преимущественно становятся просветительские сюжеты, которые он осуждает за ограниченность, считая их слишком очевидными и надуманными. Другим вариантом воплощения интертекста у Гофмана является попытка «чужого» текста вмешиваться в судьбы героев, управлять их поступками, что, по мнению Гофмана, разрушает уникальный мир нового текста. Гофман же, создавая свои сюжеты, ставил перед собой цель создать миры, в которых жизнь выражена в более совершенной форме, что ему удалось как никому другому.
Ярким примером пародийной интертекстуальности в произведениях Гофмана является история, приключившаяся с героем новеллы «Взаимосвязь вещей», где Гофман воссоздает эпизод с девушкой Миньоной из романа Гете «Годы учения Вильгельма Мейстера». Вильгельм – главный герой романа Гете – встречает бродячую циркачку по имени Миньона, которая сторонится людей и одевается как мальчик. Хозяин избивает ее и заставляет танцевать за деньги. Гофман использует только один из эпизодов гетевского романа, где Миньона танцует с яйцами, чтобы показать, как литературные стереотипы влияют на читателя. «Чужой» текст вклинивается в мир реальный и несет разочарование героям. Сравним. У Гете: «Миньона завязала себе глаза, подала знак и, словно заведенный механизм, начала двигаться под музыку, подчеркивая кастаньетами такт и напев. Ловко, легко, быстро и четко выполняла она танцевальные па. Так смело и решительно вонзалась носком между яйцами и рядом с ними, что казалось, вот-вот она либо раздавит одно, либо в стремительном повороте отшвырнет другое» [3, т. 7, с. 92–93]. У Гофмана: «В центе круга, между девяти яиц, которые лежали кучками по три, девушка с повязкой на глазах танцевала фанданго, сопровождая свой танец игрой на тамбурине <…>. Ее фигурка, как и каждое движение, были само очарование и изящество. <…> Она решительно и твердо ставила ногу вплотную в кучке яиц» [4, т. 4(2) , с. 350].
Увидев танец девушки, герой Гофмана – Людвиг попадает под влияние гетевского текста и ассоциирует себя с Вильгельмом Мастером, желая ее спасти от жестокого хозяина. Происходит пересечение мира реального повествования с миром «чужого» текста (интертекстуальным). Однако действительность оказывается иной: девушку зовут вовсе не Миньона, а Эвариста, и ее сопровождает не жестокий хозяин, от которого Вильгельм ее спасает, а отец, который любит ее и всегда щедр с ней. Это заблуждение оборачивается для героя разочарованием: лже-Миньона обманывает ожидания Людвига и вместо несчастной Миньоны оказывается воровкой, которая крадет у его друга Эвариста перстень с драгоценными камнями.
Другим примером вмешательства «чужого» текста в сюжет повествования является новелла «Повелитель блох», где автор использует другой прием интертекстуальности – цитацию, которая подается в ироническом контексте. Гофман обличает произвол чиновников, которые готовы в любых, самых безобидных словах найти доказательства вины в преступлении. Тайный советник Кнаррпанти читает дневник Перегринуса Тиса с заметками к роману И. В. Гете «Годы учения Вильгельма Мейстера», опере В. А. Моцарта «Похищение из Сераля» и к другим произведениям: «Есть что-то высокое и прекрасное в этом Похищении». Далее: «Но ту я похитил, что краше всех!» Далее: «Я похитил у него эту Марианну, эту Филину, эту Миньону!» Далее: «Я люблю эти похищения». Далее: «Юлию во что бы то ни стало должно было похитить, и это действительно случилось, так как я заставил замаскированных людей напасть на нее и утащить во время одинокой прогулки в лесу» [4, т. 5, с. 424–425]. Кнаррпанти проецирует личностное восприятие произведений литературы, записанное Перегринусом Тисом, на мир реальный и опирается на эти факты для обвинения невиновного в преступлении, которого не было.
В большей степени интертекстуальное двоемирие, основанное на роковом вмешательстве «чужого» текста в судьбы героев, проявляется в новелле Гофмана «Разбойники», которая целиком строится на этом приеме. Сюжет новеллы Гофмана, расстановка персонажей, место и время действия восходят к шиллеровской трагедии «Разбойники», фабула которой присутствует в одноименной новелле Гофмана как интертекст. Очевидное сходство сюжета и постоянные намеки героев Гофмана на то, что они чувствуют себя как часть трагедии Шиллера, красноречиво говорят о том, что немецкий романтик сознательно вступает в полемику с Ф. Шиллером. Тексты находятся в диалогическом взаимодействии, и «чужой» текст вмешивается в мир гофмановских героев, жизнь которых развивается как по сюжету драмы Ф. Шиллера.
Для Гофмана в этой новелле важным моментом является театральный характер «чужого» текста. Как известно, Гофман всегда был увлечен театром, поэтому пытался использовать театральные приемы в прозе. Неповторимый синтетизм в новелле Гофмана появляется благодаря единству драмы, прозы, сценографии и монтажа (как приема построения сюжета). Стойкое присутствие театрального элемента в произведениях Гофмана отмечает и Л. А. Мишина. Она считает, что этот принцип является одним особенностей стиля Гофмана, поэтому определяет роман «Эликсиры дьявола» как театр-роман [8, с. 911]. В качестве самостоятельного пласта внутри гофмановского произведения она выделяет цикл своеобразных спектаклей, связанных с образами потешных чудаков, которые привносят в роман ироническое начало. Такое построение жизни по театральным моделям и активное присутствие в повседневности игрового и артистического начала Л.А. Мишина называет «театральностью в жизни» [Там же, с. 913].
В «Разбойниках» Гофмана «театральность в жизни» также находит воплощение. Сюжет новеллы построен как спектакль, состоящий из трех частей (актов): первый акт – события, свидетелями которого стали Виллибальд и Гартман, второй – письмо Гартмана Виллибальду, в котором сообщается о происшедшем в замке после того, как два друга его покинули, и третий акт – письмо Виллибальда Гартману с рассказом о судьбе Амалии. Кроме того, в диалогах героев между шиллеровским текстом в речи героев проскальзывают высказывания о сущности своей роли или о театральности в целом. Например, старый граф рассуждает: «Если <…> роль сама по себе интересна и дает возможность проявить талант, как обыкновенно и случается в ролях злодеев, я бы не мог и не стал возражать» [4, т. 6, с. 55].
Рассказчики в новелле Гофмана – два друга Виллибальд и Гартман – в самом начале повествования замечают, что они стали свидетелями присутствия шил-леровского сюжета в реальности: «Мы с тобой обеими ногами увязли в “Разбойниках” Шиллера. Местом действия является старый замок в Чехии, – следовательно, с декорациями все в порядке. В качестве действующих лиц выступают: Максимилиан, владетельный граф; Франц, его сын; Амалия, его племянница. Ну вот! А Карл, вероятно, атаман напавших на нас разбойников. Я чрезвычайно рад столкнуться, наконец, в реальной жизни с событиями, заставившими Шиллера написать эту трагедию» [Там же, с. 53]. Они указывают и на свою функцию в данной истории: роль хора, рассказчика. Все происходящее воспринимается ими как театральная постановка: есть место действия, декорации и персонажи, которые играют отведенную им роль, с той лишь разницей, что весь этот спектакль разворачивается в реальном мире.
Все участники шиллеровского сюжета чувствуют себя обреченными играть роль, которая им навязывается, поэтому они так болезненно реагируют на сходство происходящего с трагедией Ф. Шиллера. Например, намек старому графу случайными свидетелями происходящего на сходство персонажей и места действия реального мира с шиллеровским сюжетом вызывает у него страх: «Лицо графа страшно побледнело, и он зашатался, так что едва мог сидеть на месте» [Там же, с. 55]. Трагизм ситуации усиливается, когда становится понятно, что герои у Гофмана, несмотря на одинаковые имена и сходную расстановку персонажей с трагедией Шиллера, имеют совсем другой характер, который не соответствует той роли, которую им предписывает литературный сюжет шиллеровской драмы. У Гофмана Карл – разбойник и прожигатель жизни. Его главная цель – получить наследство. Характер Карла идет вразрез с шиллеровским вариантом, у которого он – благородный и смелый молодой человек.
Франц же у Гофмана, в отличие от шиллеровского прототипа, – добрый, преданный своей семье. Он искренне и безответно любит Амалию. Эта любовь, как рок, преследует его: «Я с той же страстью, с таким же безумием, с каким Амалия любит порочного братца, люблю ее. <…> Я решил, что смогу подавить в себе эту губительную страсть, отдавшись всем земным наслаждениям. <…> Смертельный яд отравлял меня изнутри» [Там же, с. 58]. Франц говорит о своей неспособности забыть Амалию. Чувство к ней охватывает его, как болезнь. Он знает, к чему может привести эта порочная любовь, но этот другой мир – мир шиллеровского сюжета – сильнее воли героев, он управляет не только их поступками, но и чувствами; это злой, аномальный мир, который сводит с ума. Речь Франца тоже отличается противоречивостью и содержит оговорки, обнажая безуспешные попытки борьбы со своей ролью: «Да, я и есть Франц! И хочу им быть!» [Там же, с. 56]. Но тут же добавляет: «Я вынужден быть им, я…» [Там же]. Франц чувствует, что другой мир все больше набирает силу, вмешиваясь в судьбу реальных людей: «Вы правы! Трагедия, почти столь же ужасная, как та, о которой вам напомнили услышанные здесь имена, вероятно, будет вскоре поставлена в стенах нашего дома. Да, я Франц, которого ненавидит Амалия. Но <…> я не то чудовище. <…> Я всего лишь несчастный, раздавленный неумолимым роком и идущий навстречу самой мучительной смерти» [Там же].
Мир «чужого» литературного произведения (интертекст) навязывается героям, они страдают от его фатализма, хотят избежать его. Неслучайно Амалия умоляет одного из гостей увезти ее из замка: «Но тогда, – радостно воскликнула графиня, – вырвите меня из этих обстоятельств, в которых я ежедневно, ежечасно умираю мучительной смертью. <…> Я поеду с вами…» [Там же, с. 60]. Франц тоже мечтает отказаться от своей судьбоносной роли: «Я вырвусь отсюда… Теперь всюду говорят о предстоящей войне, и я отправлюсь на войну…» [Там же]. Или: «Я знаю свое безумие и не могу вырваться из ужасного положения, которое губит меня и в то же время заставляет ее любить» [Там же].
В итоге героям Гофмана так и не удается противостоять миру «чужого» текста, трагедия которого вклинивается в их реальность. Валлибальд напишет об этом: «Когда-то ты сказал мне, что мы находимся среди “Разбойников” Шиллера, и эта мысль, казавшаяся простою шуткой, привела в движение маятник разрушительного механизма, увлекшего с собою и меня настолько, что я чувствую его гибельную силу» [Там же, с. 77–78]. И, хотя финал гофмановской новеллы несколько отличается, общий сюжет шиллеровского текста соблюден: погибают все участники трагедии, кроме Франца и Амалии. Францу удается избежать своей участи, отказавшись от своей роли, своего имени, которое несет в себе трагический рок (контекст). А Амалия сходит с ума, оставшись навсегда под влиянием отведенной ей роли, которая в ее сознании опять проигрывается и от которой она пытается избавиться. Об этом свидетельствуют ее приступы с мольбами о помощи к окружающим («Спаси, спаси меня!» [Там же, с. 77]). Ей удается остаться в живых вопреки роли благодаря бутафорскому кинжалу, который использует Карл в финале шиллеровской трагедии: «…но, что мой Карл убил меня своими руками, это злобная клевета. Он только сделал вид, что убивает, дабы успокоить беснующуюся свору. И приставил к моей груди не настоящий, а театральный кинжал» [Там же]. Ее смерть становится только буффонадой.
Подобное вмешательство «чужого» текста в сюжет гофмановского произведения мы встречаем также в «Эликсирах дьявола». Одна из главных героинь романа – набожная девушка Аврелия – находится под влиянием романа М. Г. Льюиса «Монах», сюжет которого настолько проникает в ее сознание, что она начинает ассоциировать себя с героиней Льюиса: «В комнате брата увидела я на столе незнакомую книгу; я раскрыла ее, то был переведенный с английского роман “Монах”! Ледяным ужасом потрясла меня мысль о том, что мой тайный возлюбленный – тоже монах [4, т. 2, с. 194]. Читая роман Льюиса, Аврелия проецирует его сюжет на себя и тем самым смешивает реальный мир с интертекстуальным, проживая его сюжет сначала в процессе чтения, а затем в реальности: «Что-то подсказывало, будто книга меня вразумит. Я взяла книгу с собой, начала читать и увлеклась причудливым повествованием <…> я предположила, что мой неизвестный – тоже подданный дьявола, вот он меня и совращает. И все-таки я не могла избыть любви к монаху, вселившемуся в меня. Теперь я знала, что бывает богопротивная любовь. <…> Частенько я вся трепетала, когда мужчина приближался ко мне; мне все думалось, это тот монах, сейчас он схватит меня, утащит, и я пропала» [Там же, с. 195]. Ей нравилось представлять себя на месте героини из романа «Монах», поэтому не удивительно, что Аврелия влюбляется в Медардуса еще задолго до реальной встречи с ним: «Мне представился монах в романе, и почудилось, будто этим-то Медардусом я и одержима, люблю и страшусь его. <…> Но напрасно пыталась я освободить мою душу от наваждения; беззащитная девочка не могла противостоять греховной любви к служителю Божьему» [Там же].
Гофман использует прием интертекстуальности и в новелле «Дон Жуан», но в другой интерпретации: мир реальный противопоставлен не столько миру «чужого» художественного произведения, сколько роли из этого произведения. Актриса, играющая Донну Анну, до такой степени вживается в роль, что проживает ее как реальность, что становится для нее роковым и фатальным. Тем самым Гофман размышляет о проблеме взаимодействия роли и актера. Как известно, Гофман всегда осуждал филистерское отношение к искусству. Для него истинным являлся только тот художник, который всецело отдавал себя творчеству. Именно такой он рисует актрису, играющую роль Донны Анны. Она живет в мире музыки, а роль проживает как свою жизнь, не отделяя ее от себя. Она даже называет себя именем героини: «Несчастная Анна, настали самые страшные для тебя минуты» [4, т. 1, с. 87]. Актриса среди множества окружающих ее людей только в рассказчике чувствует родственную душу: «Но ты <…> ты меня понял, ибо я знаю – тебе тоже открылась чудесная романтическая страна, где царят нежные чары звуков» [Там же]. В восприятии Анны рассказчик ассоциируется с самим Моцартом: «Да… то, что я пела, был ты, а твои мелодии – это я» [Там же].
Таким образом, Гофман активно использует в своем творчестве интертекстуальность, основанную на аллюзиях, цитации и диалогизме, с помощью которых он создает свой особый мир произведений и тем самым вступает в полемику с автором заимствованного образа или сюжета. Уникальным приемом гофмановской интертекстуальности является создание особого типа двоемирия – литературного, когда текст «чужого» художественного произведения проходит через сознание героев и начинает ими управлять, воссоздавая литературный сюжет в реальном мире. Этот прием станет одним из способов построения художественного текста в искусстве модернизма и постмодерна.
Список литературы Интертекстуальность как прием в творчестве Э. Т. А. Гофмана
- Бахтин М. М. Проблема речевых жанров//Бахтин М. М. Собр. соч.: в 7 т. Т. 5. М.: Рус. словари, 1997. С. 159-206.
- Беззера П. А. К соотношению «интертекстуальности» и «диалогизма»//Новый филологический вестник. 2007. Т. 4. Вып. 3. С. 5-7.
- Гете И. В. Собр. соч.: в 10 т. Т.10. М.: Худож. лит., 1980. 526 с.
- Гофман Э. Т. А. Собр. соч.: в 6 т. М.: Худож. лит., 1991-1999.