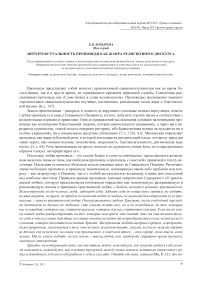Интертекстуальность проповеди как жанра религиозного дискурса
Автор: Бобырева Екатерина Валерьевна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Специфика организации текстов различной стилевой и жанровой принадлежности
Статья в выпуске: 5 (39), 2015 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются основные черты и закономерности построения проповеди как жанра религиозного дискурса. Интертекстуальность текста проповеди рассматрвиается в качестве одной из закономерностей ее построения и в качестве тематической рамки развития.
Религиозный дискурс, жанры религиозного дискурса, жанр проповеди, интертекстуальность
Короткий адрес: https://sciup.org/14822296
IDR: 14822296
Текст научной статьи Интертекстуальность проповеди как жанра религиозного дискурса
Проповедь представляет собой монолог, произносимый священнослужителем как во время богослужения, так и в другое время, не ограниченное временем церковной службы. Гомилетика рассматривает проповедь как «Слово Божье в слове человеческом». Проповедью традиционно именуют «произносимое священнослужителем поучение, наставление, разъяснение основ веры и благочестивой жизни» [6, с. 147].
Задача проповедника – раскрыть и донести до верующего основные истины вероучения, помочь глубже проникнуть в смысл Священного Писания и, в итоге, побудить строить жизнь в соответствии с религиозными нормами и правилами. Одно из направлений исследования основано на понимании проповеди как воплощения божественной энергии, которая ниспосылается священнику, а через него передается слушателям, «такой подход отвергает риторику, ибо Божественная истина не нуждается ни в особых украшениях, ни в специальных средствах убеждения» [7, с. 124]. А.К. Михальская определяет проповедь как жанр публичной речи, в которой воплощается риторический идеал, которому присущи такие черты, как «немногословие, спокойствие, искренность, благожелательность, ритмическая мерность» [5, с. 64]. Речь проповедника не просто доносит до слушателя учение Бога, но и определенным образом толкует, интерпретирует его.
Поскольку любая проповедь – это «слово Божье в слове человеческом», представляется возможным выделить такие ее типы, как свободная проповедь и проповедь с «жесткой» привязкой к тексту источника. Последняя отличается обильным использованием цитат из Священного Писания. Различают также свободную проповедь и проповедь тематическую, посвященную какой-либо проблеме или вопросу – как затронутому в Писании, так и с особой актуальностью вставшему в наши дни (последний вид наиболее частотен). Приведем пример проповеди Антония митрополита Сурожского «О христианской любви», которую представляется возможным определить как тематическую, раскрывающую и разъясняющую основы и принципы христианской любви: «Любовь делается истинно христианской, Божественной, когда человек, любя, забывает себя. Забыть себя до конца дано святым, но любить, не ища награды, не прося, не требуя, не вымогая любви за любовь, не вымогая благодарности за ее проявление, – начало христианской любви. Она расцветает в любовь Христову, когда свободный дар любви достигает не только до любимых (это умеют делать все), но и до нелюбимых, до тех, которые нас ненавидят, которые нас считают врагами, которые для нас считаются чужими. Если мы не умеем нашей любви распространить на тех, которые нам враги, это значит, что мы еще помним только себя и что все наши действия, все наши чувства исходят от непреображенного еще человеческого сознания, которое находится вне тайны Христа. Мы призваны любить щедрым сердцем, а щедрость, даже природная, заключается в том, что человек жаждет давать, ликует, когда он может отдать не только ему ненужное, но самое ему драгоценное, в конечном итоге, – свое сердце, свою мысль, свою жизнь. Мы не умеем любить, но вся жизнь – школа любви, или, наоборот, страшное время темного, холодного отчуждения.
Христос нам открывает путь, как научиться любви: каждый раз, как на пути любви я себе самому вспомнюсь, каждый раз, как я встану преградой между своим живым, истинным движением сердца и действием, я должен обернуться к себе и сказать: Отойди от меня, сатана (Мк, 8: 33); ты по- мышляешь о земном, а не о небесном…. Каждый раз, как, проявляя любовь, я буду требовать любовь, я буду требовать ответной любви, благодарности за благодеяния, я должен обратиться к Богу и сказать: Прости, Господи, я осквернил тайну Божественной любви… Каждый раз, когда в ответ на чужую ненависть, на клевету, на отвержение, на отчуждение я замкнусь и скажу: Этот человек мне чужой, он мне враг – я должен знать, что для меня – не только во мне, но для меня самого – закрылась тайна любви, я вне Бога, я вне тайны человеческого братства, я не ученик Христа.
…Любовь предела не знает, она требует нас до конца, всецело. Мы не можем только какой-то частью души согреться; если мы это допустим, мы потухнем, охладеем. Мы должны запылать всем нашим сердцем и волей, и телом и превратиться в «купину неопалимую», в тот куст, который видел Моисей в пустыне, – который горел всем своим существом и не сгорал. Человеческая любовь, когда она не освящена Божественной тайной, поедает вещество, которым питается. Божественная любовь горит, превращает все в живое пламя, но не питается тем, что горит; в этой Божественной любви сгорает все, что не может жить вечно; остается чистое и светлое пламенение, которое превращает Человека в Бога, как Ветхий Завет говорит, как Христос повторяет. Будем … учиться этой любви. И только тогда сможем мы сказать, что мы стали учениками Христа. Аминь» (Воскресные проповеди, 2003).
В любом жанровом образце проповеди можно выделить три составные части: введение, основная часть проповеди (главная часть, основная мысль), молитва, обращенная к Богу [1, с. 330]. Введение может содержать эпиграф, приветствие и собственно введение. В основной части содержатся сегменты, связанные с предметом проповеди. Заключение – это своеобразный итог, его отличают простота изложения и, следовательно, восприятия, серьезный характер и безусловная связь с основной частью проповеди; кроме того, в риторическом плане заключение должно быть лаконичным, но в то же время эмоциональным и эффективным по силе воздействия на адресата.
Главный отправитель текста проповеди – Бог, человеку отводится роль «субъекта-инструмента»; проповедник, по сути, выступает как посредник, интерпретатор божественного текста. «Человек, произносящий проповедь, говорит не только в присутствии Бога, но и от лица Бога. Именно поэтому от проповедника требуется обращение, т. е. внутреннее озарение» [3, с. 329 – 330]. Среди основных функций проповеди можно выделить воздействующую (повлиять на слушающего, оказать воздействие); дидактическую (разъяснить основные моменты учения, научить поступать должным образом); убеждающую (убедить слушающего в правильности и истинности сказанного – в истинности учения, с одной стороны, и правильности того положения, которое выступает ключевым в данной проповеди – с другой); назидательную (убедить в необходимости совершения одних поступков и неприемлемости, греховности других); профетическую (укрепить веру).
По отношению к первичному тексту Священного Писания проповедь – это «слово человека по поводу слова Бога» [4, с. 205]. Цель проповеди – раскрыть, объяснить, донести смысл слова Бога до человека. Несомненно, такое «донесение» неизбежно сопряжено с адаптацией первичного текста к особенностям восприятия отдельного человека или группы людей. Адаптация может заключаться в полном или частичном «переводе» текста на более понятный язык, при этом может иметь место как компрессия (сжатие), так и расширение (интерпретация, трактовка) исходного текста. При компрессии в тексте проповеди представлены только главные, ключевые смыслы, а при расширении к исходному тексту могут добавляться различные толкования – трактовка следствий тех или иных событий, повторы ключевых значений и смыслов, прибавление к исходному тексту дополнительной, эмоционально окрашенной информации и т. п.
От любого другого жанрового образца религиозного дискурса проповедь отличается относительной свободой выбора содержания презентуемого материала и формы построения. Наряду с наставлением и призывом следовать Закону Божьему, проповедь может разъяснять отдельные моменты учения: «Действительно ли все мы ученики Христа? Что значит быть учеником Христа? Мы знаем от апостола Павла, что значит быть учеником. Павел сказал, что жизнь для него – Христос, а смерть была бы при- обретением, потому что пока он в теле, он отлучен от Христа, которого любит, который стал всем в его жизни, не только временной, но и на всю вечность» (Воскресные проповеди, 2003, с. 69).
Хотя текст проповеди во многом интертекстуален – базовым источником проповеди является, прежде всего, текст Священного Писания – проповедь не сводится к простому цитированию Библии. Монолог проповедника содержит и его личное отношение к сказанному, интерпретацию актуальных проблем и вопросов. Требование эффективности и понятности не допускает чрезмерной клиширован-ности речи. Текст проповеди должен быть эмоционален, но в то же время сохранять черты разговорности, поскольку направлен на адресата.
Проповедь по форме организации контакта с аудиторией сохраняет некоторую диалогичность: «Как часто мы задаем вопрос: как жить? что делать? Если бы только Господь, Спаситель Христос встал предо мной, если бы только Он мне сказал вот теперь: Поступай так, поступай иначе… – я бы поступил; но Он молчит… Правда ли это? Нет, неправда! Он оставил нам свое слово в святом Евангелии; там сказано все, что нужно для того, чтобы наша жизнь стала иной, чтобы она преобразилась, чтобы все в ней стало ново, чтобы пути наши стали путями Божиими» (Там же). Мы видим некий диалог, который проповедник ведет, с одной стороны, сам с собой, а с другой стороны, со слушателями, вовлекая их в активную мыслительную деятельность.
Православная проповедь выполняет очень важную коммуникативную задачу: наряду с трактовкой, объяснением наиболее трудных, малопонятных или важных мест Священного Писания осуществляет коммуникативную связь между священнослужителем (выступающим в роли медиума) и верующим, прихожанином, к которому обращены как проповедь, так и религиозное учение в целом.
Начальные фрагменты проповеди почти всегда стандартны, клишированы: «Вспомним сегодня..», «Поговорим о …», «Мы знаем / слышали притчу о…», «Хочу обратить Ваше внимание на…», «Как часто нам приходится слышать…» и др. В меньшей степени клишированы способы завершения проповеди; завершение строится по двум основным моделям: дискурсивной и апеллятивной. В заключениях апеллятивного типа могут быть использованы следующие посылы: призывы к неустанной молитве, укреплению веры, призывы полностью довериться Богу, восхвалять Бога: «Научимся этому, этой вере и этому смирению, и тогда все перед нами раскроется, и Бог станет для нас Живым и близким и чудотворящим. Аминь» (Там же ) подтверждение уверенности в истинности Бога и его учения: «… если мы окажемся простодушными и щедрыми и если все наше богатство мы будем давать: давать, не стараясь ничего сохранить, – потому что человек тем и богат, что он отдал по любви. И тогда и среди нас, и в наших душах откроется Царство Божие, Царство торжествующей, ликующей, все победившей любви. Аминь» (Там же, с. 140).
Большое значение имеет общая композиция текста. Классические образцы проповеди строятся по принципу дедукции, начинаясь с обращения к Библии: «Не раз мы в Евангелии читаем торжественное исповедание человека, который узнал во Христе своего Господа и Бога…» (Воскресные проповеди, 2003, с. 54). Однако это не единственный композиционный путь построения проповеди. Представляется возможным выделить ряд композиционных схем построения проповеди: 1. а) обращение к Библейскому сюжету, б) интерпретация библейского мотива, в) обобщающие рассуждения о сущности определенного поступка, явления, события, г) вывод; 2. а) примеры из жизни человека, б) возможный итог жизни человека, в) проведение параллели с Библейским сюжетом, г) вывод; 3. а) обращение к Библейскому сюжету, б) примеры из жизни человека и их интерпретация, в) обобщающее рассуждение о сущности определенного поступка или события в жизни человека, г) возвращение к библейскому сюжету с целью поучения или назидания.
В самом общем виде механизм развития проповеди можно представить в следующем виде: предпосылка (Бог не действует так, как склонен думать или как рассчитывает человек), тезис (Бог всегда действует по-своему, зная, что и как лучше для человека), логический итог (Бог, зная, что хорошо для человека, все же оставляет за последним право принятия окончательного решения и совершения определенного поступка); окончательный призыв (во всем довериться Богу).
Основным правилом отбора средств для проповеди является признак уместности; как результат этого в проповеди отсутствует пафос, не употребляется возвышенная книжная лексика. Среди оснований, по которым в проповеди используются просторечные лексические единицы, можно отметить желание говорить понятным, близким слушателю языком и, таким образом, четче показать актуальность библейских заветов. Автору проповеди важно, чтобы слушатели поняли содержание высказывания, приняли его и положительно отнеслись к его призывам. Выступая в качестве интерпретатора Священного Писания, проповедник старается демонстрировать свою близость к слушателю, совместный с ним поиск путей, ведущих к Христу. Его высказывания, построенные в форме монолога, могут включать элементы диалога, а иногда и прямые обращения к слушателю. Часто в проповеди звучит местоимение «мы», подчеркивающее духовное единение священнослужителя и прихожан, общую систему ценностей, совместный поиск пути к истине. Такие формы появляются в особенно сильных призывах (наказах и запретах), которые священник формулирует без увеличения дистанции со слушателем: «Мы должны подумать о себе. Мы можем увидеть себя в образе этого бесноватого человека, потому что каждый из нас находится во власти тех или иных страстей. В ком нет зависти, в ком нет горечи, в ком нет ненависти, в ком нет тысячи других грехов? Мы все в той или иной мере одержимы, то есть мы под властью темных сил, а это и есть их цель: овладеть нами, чтобы мы стали не чем иным, как орудием зла, которое они хотят творить и могут творить только через нас, но одновременно сделать нас не только творцами зла, но и страдальцами…» (Воскресные проповеди, 2003, с. 142–143).
Риторические вопросы и вопросы-рассуждения, используемые в проповеди, помогают несколько сократить дистанцию между проповедником и слушателем. Риторические вопросы могут выполнять функцию аргументов, которые обосновывают важную истину: « Кто может прощать грехи на земле, как только Бог?» (Там же, с. 37). Их использование создает у слушателя впечатление, что он участвует в формировании хода рассуждения, производя соответствующие наблюдения. Вопросы-рассуждения, участвуя в построении внутреннего диалога, служат сопоставлению разных точек зрения и позволяют слушателю самостоятельно формировать свою систему ценностей (во всяком случае, у слушателя создается впечатление, что проповедник ничего ему не навязывает и все решения принимаются им самостоятельно). Многие из этих вопросов можно рассматривать как форму ведения дискуссии. А некоторые из них приобретают убеждающую силу благодаря их повторению и приданию им функции композиционных рамок высказывания или введения для рассуждений. Высокая частотность и полифункциональность вопросов позволяют рассматривать их как персуазивную доминанту многих религиозных текстов, в частности, текстов проповеди. Персуазивность можно считать прагматически обусловленным признаком проповеди.
Любую проповедь вообще можно представить в виде простого коммуникативного акта, участниками которого являются священнослужитель (индивидуальный адресант) и паства (коллективный адресат). Коллективный адресат проповеди характеризуется негомогенностью (различия в возрасте, уровне информированности, объеме специальных знаний, социальном статусе, уровне и векторе направленности интересов и т.п.). Для успешности проповедь должна отвечать следующим требованиям: у адресата (в данном случае коллективного) обязательно должна быть вера (без этого никакая проповедь не будет иметь эффекта, а интенции адресанта не достигнут желаемого результата), коммуниканты должны владеть общим кодом, иметь примерно одинаковый объем фоновых и специальных знаний, у адресанта и адресата должна быть определенная эмоциональная общность, адресат должен быть внутренне открыт к получению передаваемой адресантом информации.
В целом текст проповеди, выступающий как яркий вторичный жанровый образец религиозного дискурса, представляется максимально интертекстуальным. Отрыв его от первичного материала – непосредственно текста Священного Писания – лишит его той силы воздействия на адресата, которой он обладает. Интертекстуальность текста проповеди можно рассматривать в качестве одной из композиционных закономерностей ее построения, а, с другой стороны, в качестве тематической рамки развития.
Список литературы Интертекстуальность проповеди как жанра религиозного дискурса
- Войтак М. Стереотипность и творчество в тексте. Пермь, 1999. С.25-36. Войтак М. Индивидуальная реализация жанрового образца проповеди // Стереотипность и творчество в тексте: Межвуз. сб. науч. тр. Пермь, 2002. С. 329-345. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Волгоград, 2002. Мечковская Н.Б. Язык и религия. М.: ФАИР, 1998. Михальская А.К. Пути развития отечественной риторики: утрата и поиски речевого идеала // Филологические науки.1992. № 3. С. 55-67. Практическая энциклопедия православного христианина. Основы церковной жизни. СПб.: Сатись Держава, 2003. Прохватилова О.А. Провославная проповедь и молитва как феномен современной звучащей речи. Волгоград: Изд-во Волгогр. гос. ун-та, 1999.