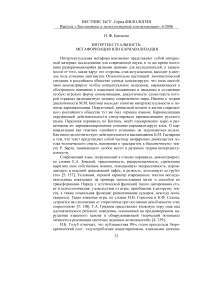Интертекстуальность: метафоризация или карнавализация
Автор: Крюкова Наталья Федоровна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Проблемы теории
Статья в выпуске: 6, 2006 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/146120418
IDR: 146120418
Текст статьи Интертекстуальность: метафоризация или карнавализация
ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ:
МЕТАФОРИЗАЦИЯ ИЛИ КАРНАВАЛИЗАЦИЯ
Интертекстуальная метафора неизменно представляет собой интересный материал исследования для современной науки, в то же время постоянно разворачивающийся разными гранями для исследователей, в зависимости от того, какие вдруг его стороны, став актуальными, выходят в светлое поле сознания лингвистов. Относительно настоящей лингвистической ситуации в российском обществе ученые констатируют, что язык настойчиво демонстрирует особое концептуальное мышление, выражающееся в обостренном внимании к языковым искажениям и насилиям и создающее особую игровую форму коммуникации, диалогичность слова-текста которой отражает разноцветную мозаику современного мира. Именно к теории диалогичности М.М. Бахтина восходят понятие интертекстуальности и понятие карнавализации. Переломный, кризисный момент в жизни современного российского общества тут же был отражен языком. Карнавализация окружающей действительности стимулировала карнавализацию русского языка. Персонаж карнавала, по Бахтину, несёт одновременно идею и развенчание ее: карнавализированное сознание карнавализирует язык. О кар-навализации как генезисе «двойного сознания» не задумываться нельзя. Как никогда соответствует действительности высказывание Б.М. Гаспарова о том, что текст представляет собой частицу непрерывно движущегося потока человеческого опыта, напоминая о «раскрытом в бесконечность» тексте Р. Барта, занимающего особое место в развитии теории интертекстуальности.
Современный язык, погруженный в стихию карнавала, демонстрирует, по словам Е.А. Земской, «раскованность, раскрепощенность, стремление выразить свое собственное мнение, повышенную экспрессивность, порождающую и высокий гражданский пафос, и резкость, доходящую до грубости» [5: 157]. Условный, игровой характер современных текстов исследовательница показывает на примере использования цитат и способов их трансформации. Наряду с эстетической функцией такого цитирования стоит и психологическая: удовольствие от игры, приобщение к авторству текста, а также социальная функция: развенчивание кумиров, некогда почитавшихся. Такая языковая игра, по словам И.Н. Горелова и К.Ф. Седова, «строится на отклонении от стереотипов при осознании незыблемости этих стереотипов» [3: 138]. Т.А. Гридина представляет языковую игру «как вид адогматического речевого поведения, основанный на преднамеренном нарушении языкового канона и обнаруживающий творческий потенциал личности в реализации системно заданных возможностей» [4: 239].
И.Б. Голуб отмечает, что публицистика 90-х годов преодолела бюрократический слог, злоупотребление канцеляризмами, языковыми штампа- ми, изобилующими в советское время. Сейчас их можно видеть в пародийных текстах или в выступлениях публичных лиц [2: 442].
Современная речь «пропитана иронией и самоиронией, пропитана явными и скрытыми отсылками к текстам культур разных эпох» [10: 20].
О разных видах интертекстуальности, используемых авторами для создания комического эффекта пишет Э.М. Береговская. К ним относятся квазипословицы и квазиафоризмы, которые можно встретить повсюду: в художественных произведениях, в газетных и журнальных текстах, в рекламе, в форме граффити и, наконец, в разговорной речи, где они приобретают статус ходячих шуток. Квазипословицы и квазиафоризмы выступают: (1) в виде подделки под исходный (фольклорный или авторский) текст: Лучше есть белый хлеб у Чёрного моря, чем чёрный у Белого ; (2) в трансформированном виде: Ум хорошо, а два плохо. Береговская утверждает, что подобные цитаты не пародийны, а травестийны, что острие шутки направлено не на источник цитаты, а на современный автору мир, принимающий карикатурный вид [1: 34].
Повышенный интерес авторов к ироническому толкованию событий распространяется и на тексты официального характера. Использование цитат из известных источников в изменённом виде – излюбленный приём иронического толкования событий, понимание которого подчас оказывается недоступно «без специального рода комментария, во много раз превышающего по объёму сам текст» [9: 157].
О текстовых единицах, заключающих в себе диалогичность слова, пишут В.Г. Костомаров и Н.Д. Бурвикова [8]. Обращаясь к исследованию карнавализации языка, они отмечают, что языковые игры, осуществляемые раньше в художественном пространстве, распространились сейчас повсеместно. Авторы рассматривают функционирование традиционно изучаемых в лексикологии и стилистике таких языковых средств как пословицы, цитаты, афоризмы, говорящие имена, названия и т.п., все то, что является ключевыми словами культуры и составляет предмет исследования языковой картины мира. Многие исследователи отмечают широкое распространение в публицистических текстах последнего времени аллюзий, прецедентных текстов. О подобных текстовых реминисценциях писали, например, Земская [5], Караулов [7], Гридина [4] и др. Костомаровым и Бурвико-вой были выделены логоэпистемы, языковые единицы, несущие знания о национальной культуре и указывающие на породившие ее прецедентные текст или ситуацию. Авторами подчеркивается «их семантикопрагматический характер, не вытекающий непосредственно из этих знаков как таковых» и отмечается их текстообразующий потенциал [8: 33, 39].
Каждый текст существует как интертекст, другие тексты существуют в нем на разных уровнях. Интертекстуальность – не только словесная сфера, это составная часть культуры. Она вводит текст в культурный контекст. Ее проявления многообразны. Интертекстуальность связана с теорией функциональных стилей и с жанровым варьированием. По мнению З.Я. Турае- вой, в рамках каждого функционального стиля действуют противоборствующие тенденции – центростремительная и центробежная: и та, и другая по-своему связаны с интертекстуальностью. Первая обеспечивает устойчивость функционального стиля, вторая – динамичность и сопряжение разных функциональных стилей и разных жанров в рамках одного текста [14: 65-66]. Сближение и расхождение жанров в рамках одного функционального стиля – монография, статья, реферат (стиль научной прозы) образуют внутристилевое варьирование – тип неустойчивого равновесия, известного как явления гомеостазиса [11]. Суть его в поддержании параметров, необходимых для сохранения системы, выводит текст за пределы функционального стиля.
С другой стороны, интертекстуальность проявляется в синкретизме различных функциональных стилей. Так, можно сказать, что традиционое противопоставление художественной и научной прозы не представляется абсолютным, но, скорее, является исторически-тенденциозным.
Жанрово интертекстуален по своей специфике, по своему характеру, по своей генологии роман. Однако этот, по меткому выражению одного из исследователей, литературный бастард, сегодня подвержен особой интерференции жанров как специфической разновидности интертекстуальности, отражающей постмодернистскую тенденцию письма. Возникает устойчивое мнение о проникновении разговорного слова в художественный текст, обусловленное последствиями отмены цензуры, включением инвектив как самого крайнего показателя «разговорщины». Но при всем впечатлении открытости границ, оптимистично считает В.К. Харченко, даже достаточно откровенные тексты сохраняют свою художественность, жанровость, тек-стовость. В своем обзоре современной литературы в этой связи автор подтверждает высказанную мысль примером повести Сергея Игнатова «Муха» (о том, как особа легкого поведения «охомутала» солдатика и регулировала свою семейную жизнь, – произведения, вызывающего сложные чувства, по существу замешенного на «грязи» жизни, в котором однако параллельно идет и преодоление этой грязи вплоть до проекции на знаменитую «Сиск-стинскую мадонну») и др.[13: 147-150].
Еще более благоприятно В.К. Харченко оценивает интертекстуальность в разговорном дискурсе, считая это проявлением таланта языкотворчества. «Гарольд Блум писал о strong poets – сильных поэтах, создающих словарь, и всех остальных, пользующихся устоявшимся, традиционным словарем. Эта классификация хорошо ложится на “рядовых носителей” языка, среди которых встречаются далеко не рядовые носители, точнее даже не столько “носители”, сколько создаватели, перманентные творцы языка, поддерживающие языковой потенциал личным примером собственного языкотворчества. …Талант языкотворчества как раз и проявляется в поли-инструментальном владении языковыми возможностями» [13: 32-33].
Маркерами интертекстуальности являются цитаты, аллюзии, тропеи-ческие средства. В тексте цитата, как правило, полностью не ассимилиру- ется и за счёт этого создается своеобразный эффект метафоризации, реализующей разные прагматические функции. По наблюдениям В.К. Харченко, включение цитат в диалоговые реплики может иметь ту же цель, тот же мотив деликатности, ласковости, что и использование вокативов, диминутивов, приставочного смягчения, литот. Но механизм цитатного смягчения особый: это СМЯГЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ДИСКУРСИВНОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ. Смягчение при этом бывает обусловлено еще и ТЕРЦИАРНОСТЬЮ речи, присутствием «зрителей», «аудитории». Например,
[Председатель комиссии по аттестации аспирантов:] Ну что, пробудился интерес? - Да... - Если интерес такой же будете проявлять, то «в путь-дорогу дальнюю я тебя отправлю» . Ну, гуляй! [Членам комиссии:] Это ж просто крыша от армии!...
Цитатное смягчение как прием может иногда даже диссонировать с содержанием цитаты, подчас достаточно резким, однако само наличие цитатного слоя уже делает воздействие более объёмным и как следствие более мягким. Например, [Профессор на вокзале знакомой женщине:] Давайте сумки! «Привыклируки к топорам...» [13: 99].
Цитирование обычно повышает тональность, но может играть и на снижение, становиться эмоциональной разрядкой. Например,
[На совещании:] Кто слайды делал, Руслан? Ну что вы пороговый и среднестатистический одним цветом сделали? Ну, сделайте «Один белый, другой серый, два весёлых гуся!»
Далеко не всегда цитата бывает афористична, но всегда характерологична, в разговорную ткань привносится и образ персонажа, употребившего такое высказывание, и автора текста. Например,
[Аспирантка 36 лет, учитель-словесник из Читы, удивление даже по незначительному поводу не раз выражала словами городничего из рассказа Чехова:] «Сними-ка, брат Елдырин, с меня шинель! Что-то жарко стало!»
Цитация в разговорной речи удовлетворяет жажде театральности, разнообразит, взрыхляет языковой ландшафт, заставляет вторично работать «культуру», позволяет совмещать высокое и игровое. Порождение цитатой эффекта сценичности демонстрирует следующий диалог.
[Оператор телеведущей с целью проверки звука:] Скажи что-нибудь! - «Раз-два-три-четыре-пять, вышел зайчик погулять» [Звучание некачественное. Оператор:] Плохо зайчик гуляет!
Цитации нужна память целых текстов, запас хода, поскольку цитируются не только крылатые слова, но и их окружение, и вообще все, что более или менее отвечает ситуации на ассоциативном уровне.
Раритетами стали цитаты из латыни, но и английский язык, вроде бы хорошо усвоенный многими людьми, не дает материала для цитации, поскольку не выучены художественные тексты на этом языке. Удачная цита- та требует незамедлительного перевода на родной язык и особого доверия к говорящему, рискующему прослыть манерным. Всегда эффектно и изыскано выглядит иноязычная цитата, которая тут же бывает переведена. Сейчас это всё дефицит. Экзотика на уровне целой фразы срабатывает положительно как напоминание о других языках и культурах, подчеркивание условности языковых форм выражения мысли. Впрочем, это из серии рекомендаций передовому классу отечественной интеллигенции, как отмечает исследовательница [13: 135-136].
Проблема цитации заставляет затронуть уже упоминавшуюся выше проблему взаимодействия дискурсов. Цитируются чаще всего мемы художественного, песенного, публицистического дискурса (крылатые слова, афоризмы). Например, [У лужи на тротуаре, месево воды и снега, а обходить далеко, двое мужчин лет 30:] Мы лёгких путей не ищем! - Чрез тернии к звёздам? - Я вчера утонул по колено.
Аллюзии могут касаться названий художественных произведений, произведений искусств, например кинофильма «В бой идут одни “старики”» (аллюзия связана именно с названием, не содержанием фильма!). Цитация в разговорном дискурсе вообще подтверждает мысль, что названия произведений живут ещё и обособленной жизнью, отдельно от своих текстов. [Преподаватель 67 лет женщине 56 лет о совещании по ГО:] Вчера посмотрел: стариков везде в бой бросают ! И вы в два часа были там!
Цитатность, наличие аллюзий характерная черта языкового сознания русского человека.
[Женщина 76 лет об отъевшемся, поздоровевшем котенке:] И усищи у него висят, как у Тараса Бульбы.<...> Он может за мушкой невидимой гоняться в горшках [цветочных] и в то же время он брал полторашку-бутылку и гоняет по квартире. И орех гоняет. Орех-то гремит. Как у Крылова: две бочки: дна с вином и другая пустая [13: 146-147].
Далее В.К. Харченко указывает на то, что цитации в разговорном дискурсе по объему значительно больше привычных ожиданий. Во многом это связано с национальной традицией чтения, а также традициями школьной дидактики, когда многое заучивалось наизусть. Приплюсуем постоянное воздействие на говорящих печатного и медийного слова: много цитат в языке СМИ, а современные художественные произведения постмодернистской направленности вообще строятся на аллюзиях. Цитатные блоки у Сергея Есина, Андрея Битова, Евгения Фёдорова, Виктории Токаревой, Фазиля Искандера, Вячеслава Пьецуха составляют отличительную, характерную черту почти всех произведений, принадлежащих перу какого-либо из указанных авторов. Что же касается разговорного процесса, здесь не то чтобы «говорящий» заимствовал цитату из газеты ли или из книги, нет, скорее, он заимствует прежде всего сам способ цитирования и те выигрыши, которые им обеспечиваются.
Вот в публицистике, в политическом дискурсе срабатывают свои пиар-технологии и через «дешевый» прием говорить с народом на языке народа выступающий зарабатывает очки популярности [13: 148-149]. В данном случае такая прагматика, возможно, является следствием специфики газетной интертекстуальности в отличие от интертекстуальности художественной. Так, по мнению И.В. Толочина, интертекст – всегда сжатый парафраз текста-источника, возникающий не непосредственно из самого текста-источника, а опосредованно – через представление о тексте-источнике в культурном тезаурусе читателя. В случаях с журнальными статьями источником интертекста и является собственно культурный тезаурус читателя. Интертекст в журнальных статьях – это компактный текст, состоящий из информации, известной читателю и организованной в соответствии с прагматической установкой того высказывания, в котором интертекст реализуется. «Публицистический» интертекст либо дополняет и поясняет смысл текста, либо усиливает основную идею автора. Что касается поэтической речи, то здесь интертекст может выступать и выступает как основа усложнения смысла, задавая ряд ассоциативных связей между смысловыми структурами текста и интертекста. Это явление становится одним из механизмов формирования именно метафорического смысла [12: 54-70].
Не вызывает сомнения утверждение Л.В. Калашниковой [6: 31] о том, что разгадывание метафоры происходит в силу того, что мышление в человеческом обществе осуществляется по определенным законам. Дискурс может рассматриваться как система, стремящаяся к гармонии, и характеризуется структурированностью, изоморфностью, реккурентностью и пере-одичностью в распределении информативности в текстовом поле. Наличие этих признаков допускает рассмотрение дискурса как саморегулирующейся системы и делает возможным применение правила золотого сечения. Применение правила золотого сечения подтверждает гениальную мысль П. Рикёра о том, что «метафора – одновременно “дар гения” и мастерство геометра, превосходно владеющего “наукой пропорций”». Об этом следует помнить всем, кто оказался во власти интертекстуальной игры, и правы авторы, когда, обыгрывая название своей книги «Старые мехи и молодое вино», указывают на то, что «карнавал все же – лишь видимость обновления, ибо он отталкивается от известного (от старых мехов!), но пытается переосмыслить, переоценить, высмеять его (т.е. влить в них молодое кислое вино)» [8: 9]. О вреде же вливания вина молодого в мехи ветхие мы предупреждены святым Евангелием (Мф 9, 17).