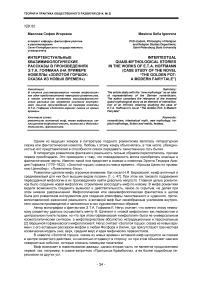Интертекстуальные квазимифологические рассказы в произведениях Э. Т. А. Гофмана (на примере новеллы «Золотой горшок: сказка из новых времен»)
Автор: Маслова София Игоревна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 5, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается «новая мифология» как идея представителей немецкого романтизма, а также значение вставного квазимифологического рассказа как элемента усиления внутреннего смысла произведений на примере новеллы Э.Т.А. Гофмана «Золотой горшок: сказка из новых времен».
Романтизм, вставной миф, новая мифология, имплицитная мифологичность, вымысел и действительность, фантастика
Короткий адрес: https://sciup.org/14936780
IDR: 14936780 | УДК: 82
Текст научной статьи Интертекстуальные квазимифологические рассказы в произведениях Э. Т. А. Гофмана (на примере новеллы «Золотой горшок: сказка из новых времен»)
Одним из ведущих жанров в литературе позднего романтизма являлась литературная сказка или фантастическая новелла. Любовь к этому жанру объяснялась, в том числе, убежденностью его представителей в способности сказок передавать таинственную суть бытия.
В литературе романтиков фантазия и реальность тесным образом переплетались, причем первое преобладало. Это приводило к тому, что повседневность могла приобретать опасные и фантастические черты. Именно такой она предстает в сказках и новеллах Эрнста Теодора Амадея Гофмана (1776–1822): «Золотой горшок: сказка из новых времен», «Крошка Цахес по прозванию Циннобер», «Повелитель блох».
Романтики уделяли мифу огромное внимание. Как писал Н.Я. Берковский, «миф античный и средневековый для них был высшим видом поэзии» [1, с. 47]. При этом как такового подражания первозданной мифологии в их произведениях найти довольно непросто. Главной целью романтиков было создание новой мифологии, стремление воссоздать миф по-новому. В мифе романтики видели возможность соединять вымысел и действительность, явное со скрытым, не делая при этом никаких разграничений. Мифологическая или квазимифологическая фантастика в целом была для романтиков инструментом для создания атмосферы таинственного и чудесного, противопоставленной жизненной реальности, а вставной миф был своеобразным усилением внутреннего смысла произведений и заложенных в них художественных образов.
Автор монографии о фантастике Э.Т.А. Гофмана К. Негус считает, что именно этому немецкому романтику удалось осуществить мечту Ф. Шлегеля о «новой мифологии» как первоистоке и центральном пункте поэзии, но что при этом гофмановская «мифология» была не универсальным космополитическим синтезом, а мифотворчеством абсолютно нетрадиционным и персональным [2]. Вершиной гофмановского мифологизма К. Негус считает «Золотой горшок: сказка из новых времен» с его вставным рассказом-мифом о любви Фосфора и Лилии, где присутствуют трехчастная космическая модель (низ, верх, средний мир) и идея мифических первоистоков.
В новелле «Золотой горшок: сказка из новых времен» вставной миф находится не совсем в центре сюжетного действия, он несколько отодвинут в сторону, но при этом объясняет нам все невероятные события, которые описаны немецким писателем.
Миф возникает в повествовании дважды, однако вторая часть не является продолжением первой, как, например, в сказке-каприччио «Принцесса Брамбилла», а ее более подробным пересказом из других уст.
История любви юноши Фосфора к огненной Лилии (именно эта история и является интертекстуальным квазимифологическим рассказом) была рассказана архивариусом Линдгорстом в кругу своих знакомых как абсолютно достоверная и имевшая место быть в действительности, но очень много веков тому назад. Однако вставной миф воспринимается лишь как весьма отдаленная предыстория, своеобразная картина начала всех начал.
Интересно заметить, что рассказ о любви Фосфора и Лилии начинается следующими словами: «Дух взирал на воды…». Именно эта фраза указывает нам на то далекое время, в которое происходила эта история. Практически в самом начале первой Книги Бытия (ивр. Бе-реши́т – «В начале»), в которой содержатся предания о происхождении мира и древнейшей истории человечества, есть следующие строки: «…а Дух Всесильного парил над водою…» [3, s. 7–8]. Схожесть с Ветхим Заветом прослеживается в оригинале на немецком языке: «Der Geist schaute auf das Wasser...» [4, s. 25] и в библейском тексте: «…und Der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser» [5, s. 6]. Однако в данном случае это «начало всех начал» мыслится не как возникновение материального мира, а как обретение любви, гармонии и блаженства.
С помощью интересной аллегории автор описывает возникновение мысли, которая, следуя из текста, может загубить искреннюю слепую любовь и превратить ее в «острую боль» и «безнадежную скорбь». Мысль как искра зажглась в Лилии после поцелуя Фосфора, и она «как бы пронзенная светом, вспыхнула в ярком пламени, из него вышло новое существо, которое, быстро улетев из долины, понеслось по бесконечному пространству, не заботясь о прежних подругах и о возлюбленном юноше». Лилия возродилась после битвы Фосфора с крылатым драконом, но, терзаемая мыслью, не испытывала более тех искренних чувств к юноше до того момента, пока он вновь не обнял ее. Здесь прослеживается то душевное томление, которое испытывал главный герой новеллы студент Ансельм по отношению к зеленой змейке Серпентине. Слепая любовь к ней проснулась в нем также внезапно, как зародилось чувство огненной Лилии и Фосфора. Ансельм был так поглощен своей любовью, что даже не позволял себе задумываться над абсурдностью происходящего. Но, когда он начинал размышлять о своем чувстве, оно превращалось для него в нечто необъяснимое и болезненное, вероятно, порожденное его собственным воображением. Он безуспешно пытался отстраниться от него в суете повседневности. Как только зеленая змейка появлялась перед ним снова, безумная любовь брала верх над разумом.
Здесь мы можем убедиться в том, что герои мифа-вставки являются некими прообразами главных героев новеллы. В «Золотом горшке» история Ансельма и Серпентины в какой-то мере повторяет историю саламандра Линдгорста и зеленой змейки, а те повторяют Фосфора и Лилию. При этом сам Линдгорст в качестве чудака-архивариуса действует в сказке, а в качестве огненного саламандра, служителя князя духов Фосфора, изгнавшего его на землю, – в мифе, а огненная Лилия из мифа появляется в основной сюжетной линии и вырастает из золотого горшка после помолвки героев новеллы Ансельма и Серпентины.
При этом надо заметить, что образ лилии появляется на протяжении всего повествования неоднократно, но лишь там, где речь идет о Линдгорсте.
Когда Ансельм впервые приходит домой к архивариусу, он «увидел перед собою только исполинский куст пламенных красных лилий» [6, с. 211]. А когда Линдгорст встречается со старухой Рауэрин и она бросает на него горсти песка из золотого горшка, то мы видим следующие строки: «Тут засверкали и воспламенились лилии на шлафроке, и архивариус стал кидать эти трескучим огнем горящие лилии на ведьму, которая завыла от боли; но когда она прыгала кверху и потрясала свой пергаментный панцирь, лилии погасали и распадались в пепел» [7].
Описываемые фантастические события и удивительные превращения глубоко укоренены в своих мифических истоках. Такую имплицитную мифологичность мы наблюдаем опять же благодаря двуплановости гофмановских сказок, из-за сплетения реальности и фантастики, максимального взаимопроникновения чудесного и обыденного: в «Золотом горшке» тот же архивариус – огненный саламандр, добывающий огонь для сигары щелканьем пальцев, его курьер – попугай, торговка – ведьма (дочь пера дракона и свекловичного корня), бузинный куст – место обитания чудесных змей с голубыми глазами. Иными словами, «за спиной» обыденных лиц, предметов, ситуаций обнаруживаются фантастические, мифические, колдовские силы из иного мира, которые могут выступать в обыденном, сниженном, комическом виде.
Попробуем предположить, чем же обоснован выбор имен для героев новеллы и обратим свое внимание именно на мифических персонажей сказки.
Главные мифические герои – Фосфор и Лилия. Фосфор появляется в повествовании во время аллегорически описываемого рассвета, когда «солнце приняло долину в свое материнское лоно, взлелеяло и согрело ее в пламенных объятиях своих лучей» и «нежные цветочки <…> нарядились в лучистые одежды», «тогда показалось в долине блестящее сияние: это был юноша Фосфор» [8].
В древней Греции, Фосфор (греч. светоносный) – божество утренней зари, одно из прозвищ Венеры [9]. Как утреннюю звезду греки называли эту планету Эосфор, долгое время не зная, что это один и тот же небесный объект. В римской мифологии – это Люцифер, также олицетворяющий утреннюю звезду – планету Венеру. Он считался сыном богини Эос и титана Астрея и почитался греками также под именем Эосфор.
Таким образом, можно провести параллель «блестящего сияния» Фосфора с древнегреческим или древнеримским представлением о вышеупомянутом «светоносном» божестве, олицетворяющем утреннюю зарю/звезду. Интересно заметить, что в христианстве имя Люцифер стало одним из имен Сатаны. В Новом Завете, в Послании к Ефесянам (2:2), Апостол Павел указывает место обитания Сатаны: он «князь, господствующий в воздухе, дух, действующий ныне в сынах противления» [10]. Фосфор у Э.Т.А. Гофмана тоже является «могучим князем духов, которому служили стихийные духи», одним из которых был архивариус Линдгорст или огненный Саламандр.
Описание князя духов встречается не только непосредственно в мифе-вставке, но и в основной сюжетной линии, однако им назван не Фосфор, а сам Линдгорст, стихийный дух, Саламандр: «Студент Ансельм понял, что с ним говорил князь духов, который теперь удалился в свой кабинет для того, может быть, чтобы побеседовать с лучами – послами каких-нибудь планет – о том, что должно случиться с ним и с дорогой Серпентиной» [11].
При этом интересно заметить, что Э.Т.А. Гофман неоднократно касался общения человека с миром стихийных духов. Например, в сказке «Королевская невеста» господин Дапсель фон Цабельтау убежден в существовании духов земли, воздуха, воды и огня, которые жаждут союза с человеком и появляются перед ним в цветке, пламени или стакане воды [12, с. 179].
Второй мифический персонаж – прекрасная огненная Лилия, в которую влюбился юноша Фосфор.
На протяжении веков о лилиях было сложено немалое количество историй, легенд и мифов. Издавна люди поклонялись им как одному из самых прекрасных созданий на Земле. Даже пожелание благополучия звучало так: «Пусть твой путь будет усыпан розами и лилиями». Лилия являлась символом надежды в Древней Греции, мира и непорочности на Руси, а во Франции эти цветы обозначали – милосердие, сострадание и правосудие. В Германии с лилией связано немало сказаний о загробной жизни. Она служит у немцев свидетельством преданности. Хотя лилии бывают разных оттенков, но именно белым цветам придается особый символический смысл. Ансельм после помолвки с Серпентиной восклицал: «…эта лилия есть видение священного созвучия всех существ» [13].
Какого цвета была Лилия в произведении Э.Т.А. Гофмана сказать довольно сложно. Так как речь идет об «огненной лилии», есть вероятность того, что она могла быть красного цвета, как и те лилии, которые видел Ансельм в оранжерее у архивариуса.
О красной лилии рассказывают, что она поменяла цвет в ночь перед крестным страданием Христа. Когда Спаситель проходил по Гефсиманскому саду, то в знак сострадания и печали перед ним склонили головы все цветы, кроме лилии, которая хотела, чтобы он насладился ее красотой. Но когда страдальческий взор упал на нее, то румянец стыда за свою гордость в сравнении с его смирением разлился по ее лепесткам и остался навсегда [14].
В данном случае сложно говорить о том, что Э.Т.А. Гофман действительно опирался на описанные выше мифы и легенды о лилии, однако аллюзию на божество утренней звезды отрицать не приходится.
В финале сказки мы читаем о том, что Ансельм женится на зеленой змейке Серпентине и вместе с ней перебирается в сказочную, мифическую Атлантиду, то есть опять же происходит перенос уже места действия мифа в реальность. Однако именно ее «реальность», благодаря этому переносу, подвергается сомнению. Именно здесь развенчивается миф о возможности прекрасной любви, безоговорочного счастья и обладания несметными богатствами Атлантиды.
Автор в конце повествования скорбно завидует Ансельму, обретшему вечное счастье, а Линдгорст утешает его следующими словами: «Не жалуйтесь так! Разве сами вы не были только что в Атлантиде и разве не владеете вы там, по крайней мере, порядочной мызой как поэтической собственностью вашего ума? Да разве и блаженство Ансельма есть не что иное, как жизнь в поэзии, которой священная гармония всего сущего открывается как глубочайшая из тайн природы!» [15]. Поэт может уйти в царство поэзии, в Атлантиду, то есть, по существу, во внутренний мир, где человек свободен, как сама природа. Это вымышленный уход в вымышленный мир. Здесь сделан акцент на иллюзорность романтической мечты, на фактическую неосуществимость идеала в реальности, на то, что миф остается в действительности за пределами осуществимого.
Ссылки:
-
1. Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. СПб., 2001.
-
2. Negus K. E.T.A. Hoffmann's Other World. The Romantic Author and his New Mythology. Philadelphia, 1965.
-
3. Тора. Ивритский текст с русским переводом и классическим комментарием «Сончино» / сост. коммент. д-р Герц. М., 2008.
-
4. Hoffmann E.T.A. Der goldene Topf. Ein Märchen aus der neuen Zeit. Stuttgart, 2004.
-
5. Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments. Zürich, 2007.
-
6. Гофман Э.Т.А. Золотой горшок: сказка из новых времен // Новеллы. М., 1978.
-
7. Там же. С. 231.
-
8. Там же. С. 187.
-
9. Мифологический словарь от А до Я. URL: http://www.mify.org/dictionary/fosfor.htm (дата обращения: 23.04.2014).
-
10. Послание к Ефесянам святого апостола Павла. URL: http://www.otche.ru/bible/efes.htm (дата обращения: 23.04.2014).
-
11. Гофман Э.Т.А. Указ. соч. С. 246.
-
12. Ботникова А.Б. Функция фантастики в произведениях немецких романтиков // Проблемы художественного метода. Рига, 1970.
-
13. Гофман Э.Т.А. Указ. соч. С. 289.
-
14. Легенды о лилии. URL: http://www.florets.ru/legendy-o-tsvetah/legendy-o-lilii.html (дата обращения: 23.04.2014).
-
15. Гофман Э.Т.А. Указ. соч. С. 299.