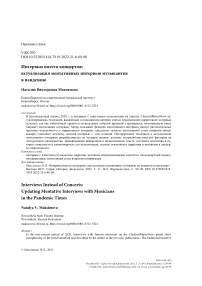Интервью вместо концертов: актуализация ментативных интервью музыкантов в пандемию
Автор: Максимова Н. В.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Медиатекст и медиадискурс
Статья в выпуске: 6 т.21, 2022 года.
Бесплатный доступ
В бесконцертный период 2020 г. в интервью с известными музыкантами на портале ClassicalMusicNews актуализировалась тенденция, выявленная и описываемая автором статьи: традиционное нарративное интервью исчезает, так как событийный хронотоп музыкальных событий временно утрачивается, возникающую нишу занимает ментативное интервью. Автор описывает феномен ментативного интервью, вводит различительные признаки ментативного и нарративного интервью, предлагает понятие ментативной сетки вопросов интервьюера, описывает методику анализа интервью с этих позиций. Интерпретация тенденции к актуализации ментативного интервью разрабатывается по четырем линиям: влияние экстралингвистических факторов на дискурсивное пространство, трансформация референции и видоизменение текста, состояние ментатива в истории словесности и закономерность его актуализации, степень освоенности нарратива и ментатива в дискурсе современности.
Интервью с известным музыкантом, нарратив, ментатив, коммуникативные стратегии, бесконцертный период, интерпретация, ментативная сетка вопросов интервьюера
Короткий адрес: https://sciup.org/147237714
IDR: 147237714 | УДК: 070 | DOI: 10.25205/1818-7919-2022-21-6-89-98
Текст научной статьи Интервью вместо концертов: актуализация ментативных интервью музыкантов в пандемию
Maksimova N. V. Interviews Instead of Concerts: Updating Mentative Interviews with Musicians in the Pandemic Times. Vestnik NSU. Series: History and Philology , 2022, vol. 21, no. 6: Journalism, pp. 89–98. (in Russ.) DOI 10.25205/1818-7919-2022-21-6-89-98
Постановка проблемы
Интервью – достаточно изучаемый жанр, описание типологий которого вошло не только в научную, но и в учебную литературу – учебники и учебные пособия по журналистике (см. [Ильченко, 2003; Колесниченко, 2008; Мажура, Тимофеева, 2019] и др.). В то же время разнородность классификаций интервью, представленная в этих и других работах, разрозненность вариантов описания свидетельствует о востребованности целостного взгляда на этот важнейший жанр журналистского дискурса. Отсутствие удобной для практического анализа классификации интервью дополнительно подчеркивает необходимость нахождения теоретических оснований для его типологизации с опорой на динамическую модель бытования разных поджанров, на представление о дискурсивной событийности современных практик и прогнозов дальнейшего функционирования этого жанра. Эти вопросы актуализируются в связи с практикой анализа современных процессов дискурсивной трансформации интервью, обусловленных социокультурной ситуацией.
Материалом исследования стали интервью известных музыкантов, прежде всего опубликованные на портале СlassicalMusicNews 1. Это интервью (2019–2021 гг.), в которых наблюдается смена коммуникативной парадигмы и концепции выстраивания интервьюером его инициирующих реплик. В связи с этим был поставлен вопрос о факторах, обусловливающих динамику функционирования интервью в указанные годы: насколько социокультурные факторы предопределяют эту динамику и есть ли иные, в том числе внутриязыковые факторы, которые становятся ведущими в этой ситуации?
Основная тенденция, которая определяет функционирование интервью в эти годы, – актуализация ментативных компонентов. Прежде чем интерпретировать эту тенденцию, необходимо пояснить, что такое ментативные компоненты интервью, а также чему противопоставлены ментативные компоненты и ментатив в целом.
Нарратив и ментатив как исследовательская оппозиция
Все интервью можно разделить на две большие группы. Одни интервью – с доминантой хронотопического, нарративного типа: в них референция события рассказа и коммуникативный план события рассказывания описываются на основе отношений « где – когда – как – что произошло и кто участники события». Иного рода компоненты и отношения между ними подчинены этому нарративному типу доминанты. Такое интервью назовем нарративным.
Другие интервью – с доминантой ахронотопической, ментативной, где на первый план выходит размышление. Здесь разрабатывается и создается (самим актом интервью) ментальное событие. Доминирует становление, развертывание мысли, где отношения между компонентами можно обозначить с помощью вопросов « почему – зачем – при каких условиях – что это есть – чему это противопоставлено – с чем это схоже – как это можно интерпретировать » и др. Здесь ментальное событие выходит на первый план, подчиняя себе и концепцию, и коммуникативную стратегию интервью.
Различение двух видов интервью, важное как в теоретическом смысле, так и в методике описания конкретных жанровых фактов, опирается на оппозицию «нарратив / ментатив», разработанную и инструментализированную в филологических исследованиях. Если нарратив – достаточно изученное явление, описание которого имеет развитые традиции анализа (см. [Тюпа, 2016; Hansen et al., 2011] и мн. др.), то ментатив – это более позднее явление русской словесной культуры и менее изученный в научном плане феномен. Понятие ментатива было введено в работе [Максимова, 2005, c. 107–121]. Затем оно использовалось в исследованиях, в которых рассмотрению подвергалось и ментальное событие как таковое [Корчин-ский, 2015], и его текстовый субстрат, взятый в тех или иных актуальных для исторического и современного текстообразования ракурсах (см. [Кузнецов, Максимова, 2007; Глембоцкая, Кузнецов, 2021] и др.).
Однако оппозиция «нарратив / ментатив» не применялась ранее по отношению к интервью и в целом к жанровому изучению журналистских текстов. В настоящей статье данная оппозиция исследуется в связи с практикой журналистского дискурса в контексте изучения способов анализа интервью. И конкретнее – в связи с интерпретацией тенденций функционирования ментативного типа интервью в контексте новых социокультурных реалий.
Нарративное и ментативное интервью
В интервью с известными деятелями искусства, и конкретнее – с музыкантами, нарративное интервью концентрируется вокруг какого-либо культурного события, как правило, только что состоявшегося. Или, напротив, вокруг предстоящего культурного события. Это актуальное событие составляет, во-первых, референцию диалога, его когнитивную основу, т. е. концепцию интервью. Интервьюера и читателя (адресата интервью) интересует, кто – где – когда – что – как именно … будет исполнять, с чем выступать. Либо – если это уже состоявшееся событие – с чем и как выступил музыкант-собеседник, в каком конкурсе или фестивале участвовал. Эти и подобные вопросы интервью достаточно узнаваемы, а строящаяся на основе них концепция обращена к подробностям какого-либо значимого культурного события, к его интриге, деталям времени и места, к составу участников-музыкантов и их слушателей-зрителей. Всё это характеризует концепцию нарративного интервью, где доминирует хронотопическая основа, сопровождающаяся подчиненным местом таких компонентов, как оценка, комментарии, рассуждения.
Во-вторых, актуальное музыкальное событие (актуальное для музыкантов, для самого интервьюера и для зрителей-слушателей данного интервью) предопределяет и специфику стратегической линии организуемого общения. Коммуникативная стратегия нарративного интервью определяется сверхзадачей интервьюера – быть таким собеседником и развернуть такой диалог, где общающиеся погружаются в хронотоп события и погружают читателей-зрителей интервью в этот же событийный план. Сделать так, как будто бы мы побывали на концерте и видели (слышали) то, что там происходило, – основа коммуникативной стратегии нарративного интервью.
Заметим, что различение когнитивного и коммуникативного планов текста (соответственно его концепции и стратегии) – методологический компонент анализа как текстовых процессов, так и изоморфного им дискурсивного общения. Соположение (по отношению друг к другу) когнитивного плана (с принадлежащим ему понятием концепции) и коммуникатив- ного плана (с центральным для него понятием стратегии) образует некий перпендикуляр. Когнитивный и коммуникативный планы входят на равных в целостную структуру дискурсивного события. Применительно к ментативу эта двусобытийная модель показана в работе [Максимова, 2005, с. 13 3-13 8]. При этом концепция (концептуально значимый смысл) рассматривается в традициях развертывания смысловой структуры текста [Дымарский, 1999, с. 45-63]. А под стратегией понимается ценностно значимая для речевого поведения говорящего и регулярно воспроизводимая в его действиях соотнесенность типа речевого намерения и определенного типа текстовой формы. Эта двуплановость относится и к ментативному интервью.
В ментативном типе интервью когнитивный план концентрируется не вокруг конкретного (уже произошедшего или будущего) события, а вокруг размышления. Какое-либо музыкальное событие может лишь упоминаться, а отсылка к нему занимает подчиненное место в структуре размышления. Такое размышление может быть вообще не привязано ни к какому событию или же иметь лишь условную хронотопическую привязку. Например, это может быть размышление о музыке как таковой (в разных аспектах ее восприятия, интерпретации). Здесь доминанта размышления подчиняет себе хронотопические детали и образует концепцию интервью.
Коммуникативно-стратегический план ментативного интервью - особый. Сделать мента-тивное интервью столь же интересным, актуальным, событийным, привлекающим широкую аудиторию, как и нарративное, - это значит выстроить таким образом план диалога с музыкантом, чтобы читатель (слушатель) полноценно пережил ментальное событие, с интересом и личностными смыслами-мотивами погрузился в него. Развертывание ментального события характеризуется целым рядом признаков дискурсивной событийности размышления-понимания:
-
• смыслообразование, понимаемое как порождение новых смыслов и выраженное в интервью в интерпретирующем, обобщающем типе диалога;
-
• локальные точки удивления логико-смыслового и коммуникативного характера, которые актуальны как для собеседников интервью, так и для его зрителя (слушателя, читателя): например, намеренное столкновение разных точек зрения, различных мнений, парадоксальные цитаты и метафорические построения и т. п.;
-
• актуальность композиционно-мыслительной интриги интервью, обусловливающей коммуникативную динамику его ментально-дискурсивных поворотов;
-
• самобытность коммуникативных стратегий ментатива (таких, как отрицание, толкование, переоформление, развитие, применение и др.)2: распределенность процессов реализации стратегий в оригинальных диалогических единствах, где сама форма той или иной стратегии инициируется интервьюером и имеет преобразованный индивидуально-авторский вариант;
-
• двойная адресация интервьюера: провоцирование к размышлению непосредственного собеседника и косвенное, опосредованное (реже - прямое) предвосхищение и прогнозирование имеющихся у читателя-зрителя вопросов, ассоциаций, смыслов, интерпретаций;
-
• последействие ментативного плана (например, размышления, выраженные в комментариях читателей, реплики в чате, репосты).
Эти и другие составляющие ментального события в своем описании опираются на общее представление о событийности и уточнены в данном случае по отношению к ментативному интервью.
К методике исследования интервью
В настоящем исследовании мы говорим о методике различения нарративного и ментативного интервью с позиции интервьюера, которая составляет главный фокус изучения. Если сжать интервью до реплик интервьюера, то можно увидеть, какой тип концепции и стратегии формируется именно им. Такая процедура позволяет компактно представить отдельное интервью, сравнивать разные интервью между собой, анализировать прежде всего те установки и перспективы, которые разворачиваются благодаря коммуникативным действиям интервьюера. Однако это не означает, что реплики и текстовые фрагменты интервьюируемого остаются в стороне или не берутся во внимание. Напротив, они составляют обязательный контекст, с помощью которого верифицируется эффективность дискурсивных действий интервьюера. Более того, только с помощью этого контекста и может быть осуществлена исследовательская фокусировка, связанная с обнаружением особенностей стратегии и концепции конкретного ментативного интервью.
Материалом исследования выступили интервью наиболее «бесконцертного периода» – 2020 г. Сплошная выборка интервью позволила проанализировать тенденции, связанные с особенностями интервью этого (ядерного с точки зрения пандемии) периода по сравнению с интервью предшествующего (предпандемического) и последующего (ослабление мер ограничительного характера, 2021 г.) периодов. В результате были отобраны 11 интервью, выступивших материалом для данной статьи. Круг интервьюеров: Денис Бочаров, Екатерина Соколова, Сергей Уваров, Елена Поляковская, Елена Федоренко, Владимир Чинаев, Екатерина Бирюкова и др. Круг интервьюируемых музыкантов: Эдуард Артемьев, Евгений Кисин, Александр Сладковский, Максим Федотов, Галина Петрова, Марина Раку и др.
Методику анализа интервью дополняет также введение понятия «сетка вопросов» интервьюера. Различение нарративного и ментативного интервью и методика сжатия интервью до вопросов интервьюера дают возможность увидеть два типа сеток вопросов – с доминантой ментативной и нарративной перспективы. Нарративная сетка интервью узнаваема: исходные реплики-вопросы направлены на детализацию прошедшего или будущего музыкального события: кто – что – где – когда … состоялось. При этом ментативные компоненты если и есть, то носят характер попутных комментариев.
Обратимся к ментативной сетке. Одним из значимых аспектов ее построения является функционирование в репликах интервьюера диалогических стратегий ментатива, структура которых подробно исследована в работе [Максимова, 2005, с. 163–291]. Рассмотрим пример интервью со скрипачом М. Федотовым и пианисткой Г. Петровой 3 (10.05.2020). Примечательно, что название интервью носит и ментативный (первая часть заголовка), и отчасти нарративный (вторая часть заголовка) характер: «В творчестве Чайковского - вакцина от всего бездушного»: к 180-летию композитора .
Нарративный тип интервью в предшествующий 2020 году период являлся привычным для поджанра «интервью с известным музыкантом». Рассматриваемый же пример интервью представляет собой новую тенденцию, связанную с доминированием интервью ментативного типа. Среди шести реплик интервьюера только вступительная и заключительная носят лишь отчасти нарративный характер, а ядро диалога – 4 срединные реплики – имеют ментативный характер, представляя собой ярко выраженные диалогические стратегии. Так, третья реплика интервьюера ( Однажды Вы сказали, что в современном мире классика должна быть другой. Что имелось в виду? ) представляет собой стратегию толкование. Вводится в косвенной форме чужая речь (в данном случае это речь адресата), затем в виде вопроса функционирует типичный медиатор толкования ( Что имелось в виду? ). А ответ собеседника как раз и представляет собой развернутое толкование. В интервью та или иная стратегия реализовывается не в речи одного его участника, а в целом вопросно-ответном комплексе, распределенном между собеседниками и представляющем диалогическое единство.
Четвертая реплика анализируемого интервью (Как классической музыке конкурировать сегодня с той огромной индустрией досуга, которая существует?) находится в русле реализации стратегии развитие. Основной приметой того, что инициируется именно эта стратегия, является заданное интервьюером противоречие «классическая музыка - индустрия досуга», поддержанное провокативной номинацией «конкурирует». Она намечает вариант синтеза и в то же время заставляет собеседников искать свою, более точную номинацию.
Реплики интервьюера № 2 ( Какое место занимают произведения Чайковского в Вашем творчестве? ) и № 5 ( Классическое искусство - это искусство, прежде всего, проверенное временем. Насколько актуальна музыка Чайковского сегодня? ) представляют собой стратегию применение . Общий тезис здесь применяется к частному случаю, детализируется, что выражено в рематических компонентах « в Вашем творчестве » и « сегодня ».
Мы уже отметили, что первая и последняя (шестая) реплики данного интервью носят отчасти нарративный, а отчасти ментативный характер. Так, реплика интервьюера № 1 отсылает к хронотопу - но не единичного события, а целого типа событий, т. е. имеет обобщенный характер референции: « Известно, что Вы - частые гости Дома-музея Чайковского в Клину и принимаете участие практически в каждом концерте в день рождения композитора. Как проходят эти праздничные вечера? » Заключительная же реплика - это рефлексия темы «музыки и карантина» (так и назван последний подзаголовок интервью): Вернемся к нашей земной жизни: как Ваша музыкальная семья переживает карантин? Эта тема регулярно пронизывает многие интервью обозначенного периода, но, отсылая к необычной, тревожной и еще не осмысленной человеком ситуации (здесь условно названной «карантином»), она задает не столько хронотоп единичного события, сколько повод для размышления и рефлексии того, что происходит вокруг в принципе (опять же вне конкретики единичного хронотопа).
Сравнивая разные интервью, можно сказать, что метатекстовой приметой ментативной сетки интервью являются также реплики-рефлексивы, представляющие собой вопросы, направленные на соотнесение общей социокультурной ситуации и частной жизни собеседника-музыканта. Например, первая вопросительная реплика одного из интервью: В это непростое время о чем Вы думаете, когда просыпаетесь? Выбор предиката «думаете», формы настоящего времени, ее обобщенного грамматического значения времени - всё это также мента-тивные приметы.
Таким образом, можно говорить не только о нарративной и ментативной сетках интервью, о доминанте одной из них или об их интерференции в различных вариантах диалога. В качестве перспективы исследования можно также говорить о вариантах построения ментативной сетки на основе комбинирования коммуникативных стратегий ментатива, реплик рефлексивного типа, метатекстовых вопросов и других способов построения ментативного диалога в жанре интервью.
Тенденция актуализации ментативных интервью
Поскольку основная наша задача - это выявление и интерпретация тенденций функционирования поджанра «интервью с известным музыкантом», сформулируем основную из выявленных тенденций указанного периода. Она заключается в актуализации ментативных интервью музыкантов в пандемию: это относится как к усилению ментативных компонентов в жанре интервью, так и к актуализации ментативной направленности жанра интервью вцелом.
Остановимся подробнее на фактологии, связанной с бытованием интервью в 2020 г. Поскольку концертов, фестивалей, конкурсов, проводимых в очном формате, не стало в этот период, то и нарративные интервью, связанные с актуальной музыкальной событийностью, потеряли свою событийную основу. Нарративное интервью, следовательно, не может привычно разворачиваться вокруг актуальных музыкальных событий. В этот период они естественным образом сократились (если не утратились) как жанровая разновидность. Чем же наполняется этот раздел, если привычных интервью, посвященных музыкальным событиям и их участникам, нет?
Возникшую нишу занимают интервью с ментативной доминантой. Они выходят с той же регулярностью, однако их тематика, концепция, коммуникативный план иные, чем в при- вычном нарративном интервью. Собеседники и интервьюеры те же. Меняется собственно дискурсивный характер интервью. Как следствие, интервьюерам необходимо продумывать иной тип вопросов, строить концепцию интервью из иных оснований. Собеседнику-музыканту необходимо теперь не рассказывать о фактах, не комментировать произошедшее в реальности, а размышлять о причинах, условиях, тенденциях, строить интерпретации, аналогии, аргументировать, сопоставлять разные точки зрения и т. п. Слушателю (зрителю, читателю) интервью необходимо быть готовым воспринимать и быть участником ментального события. Это сложнее, поскольку оно имеет дело с переходом от событийности реального к событийности виртуального мира, возможных миров, мнений и диалогических отношений. Казалось бы, меняется лишь разновидность поджанра «интервью с музыкантом», но эта перестройка требует кардинально иного, всестороннего трансформирования концепции, хода интервью, способов ведения и стратегий его построения. Все три этапа осуществления интервью - подготовка, ведение и рефлексивный самоанализ-оценка - выстраиваются иначе в ментативной парадигме. В практическом плане здесь необходимы рекомендации, построенные с опорой на не осмысленную пока в теории интервью оппозицию «нарратив - мента-тив». Необходимо разработать такие практико-ориентированные рекомендации, которые касаются прежде всего ментативного интервью, его проведения, подготовки к нему и критериев последующего анализа. В теоретическом плане важно описание как принципов и способов построения модели ментативного интервью, так и возможных вариантов ее реализации, обобщения образцовых ментативных интервью с той или иной тематикой, типами собеседников и сопоставления характера адресации в зависимости от той или иной аудитории.
Интерпретация тенденции к актуализации ментативных интервью
Как можно интерпретировать обозначенную тенденцию? Если ответ на вопрос, почему она просматривается в бесконцертную эпоху, выше уже обозначен, то вопросы, касающиеся природы этой тенденции, ее дискурсивного содержания и функциональной значимости, а также перспектив развития и дезактуализации ментатива, не ставились. Важны как ответы, так и сама постановка этих вопросов.
Первая линия интерпретации связана с отношениями «референция социокультурного типа - функционирование жанра». С этой точки зрения необходимо говорить о макрореференции дискурса, обусловленной социокультурной ситуацией. В данном случае можно различать макрореференцию хронотопического типа, противопоставленную референции ментального плана. Вторая - ментальная референция, не привязана к конкретной ситуации, не зависит от последней. Так, рассуждения о современной и классической музыке тематически не привязаны к какому-либо периоду, месту, событию. Однако если хронотоп понимать не только как «время и место», но и как включенность субъекта, личности, то можно утверждать, что этот личностный компонент хронотопа выходит на первое место при восприятии ментативного интервью. (Возникает аналогия с понятием предикативности, в которое одни лингвисты, как известно, включают категорию персональности (лица), а другие - нет.) Если внешнего события нет, тогда что именно исходно привлекает читателя интервью? Прежде всего - личность собеседников, главный из которых - интервьюируемый. Таким образом, если в нарративном интервью нас интересует «что» (какое событие будет обсуждаться), то в ментативном интервью - «кто» (будет о чем-либо рассуждать). Этим противопоставлением уточняется понятие референции в дискурсивном пространстве: тип референции не явлен статично, а предстает в динамике. При этом в заголовок (и в другие значимые с точки зрения привлечения внимания адресата компоненты интервью) регулярно выносятся в том числе наиболее значимые компоненты референции.
Второе смысловое поле, возникающее при интерпретации обозначенной тенденции, связано с отношениями экстралингвистических факторов и текста. Возникший бесконцертный период уникален для современной эпохи. Его неординарность меняет привычные коммуникативные приоритеты, поскольку нет соответствующего хронотопа для осуществления традиционного нарративного интервью. Можно видеть, как элементы социокультурного контекста непосредственно обусловливают самоликвидацию одной разновидности жанра и актуализацию другой его разновидности. Известный тезис о том, что на развитие языка влияют как внутриязыковые, так и экстралингвистические факторы, здесь приобретает новое звучание, обогащаясь совершенно иными ситуационными условиями и фактами видоизменения функционирующего речевого жанра. При этом подчеркнем, что речь не идет о вытеснении нарративного интервью ментативным. Речь идет об актуализации последнего типа интервью и его компонентов в определенный период, когда нарративный тип интервью временно утрачивается.
Третья линия интерпретации связана с вопросом: почему нарративный вариант интервью заменяется именно ментативным вариантом, а не каким-либо другим жанром или другим подтипом жанра? Действительно, можно предположить, что ослабление или исчезновение нарративного интервью могло образовать лакуну в самом разделе портала. Однако раздел «Интервью» портала СlassicalMusicNews не исчезает, не заменяется на другой раздел или на другую тематику раздела. Возрастающая частотность и функциональная значимость мента-тивного интервью, видимо, отвечает и внутренним закономерностям бытования жанров словесности. Ведь готовность ментальных процессов актуализироваться и занять образовавшуюся нишу говорит о высоком уровне их текстообразующего и смыслопорождающего потенциала. В ситуации с отсутствующим или приглушенным событийным хронотопом мысль как таковая выходит из глубинного уровня духовной жизни на ее поверхность, актуализируясь в тексте, в тех или иных его разновидностях.
Период пандемии создает своего рода точки бифуркации – состояния неопределенности, которые могут разрешаться переходом на новый, более высокий уровень упорядоченности и в более стабильное состояние функционирования системы – или же, напротив, могут вести к хаосу самоорганизации системы. Кризисные моменты меняют систему в самых разных ее областях. В том числе в дискурсивном пространстве (в сфере общения, в отборе тематизмов, персон, типов диалога). В данном случае – в сфере музыкального интервью: остановка в концертном графике высвобождает иную действительность – такую, которая с легкостью проявляет некие скрытые или дремлющие, но готовые к актуальному функционированию потенции языка. Языка – как дома бытия (по известной метафоре Мартина Хайдеггера). То, что на поверхность выбрасывается именно ментатив, занимая открывшуюся нишу, – свидетельство зрелости (в современной языковой ситуации) его когнитивного и коммуникативного потенциала и некое дополнительное подтверждение фундаментальности самой оппозиции «нарратив – ментатив». В работе [Кузнецов, Максимова, 2007] была намечена динамика исторического развития нарратива и ментатива в русской словесности. Дальнейшего исследования требуют такие вопросы, как сохранность / утрата ментативного интервью при возвращении в концертный период, специфика ментального события в ментативном интервью, нарративное интервью в ментативную эпоху современности, интерференция нарратива и ментатива в разных типах интервью и в журналистском дискурсе в целом.
Четвертая линия интерпретации связана со способностью человека рассказывать и рассуждать. Мы видим, что музыкальное интервью может быть и нарративным, и ментативным, однако традиционно в обычной ситуации нарративное интервью доминирует. Интервью-ментатив выходит на первый план лишь в бесконцертный период. Этот факт актуализирует и такой тезис: рассказывать и воспринимать истории (искусно или безыскусно – это уже другой вопрос), видимо, легче, проще, привычнее и для самого интервьюера, и для его собеседника-музыканта, и для зрителя-читателя. По сравнению с построением мысли, рассуждения. Размышлять в дискурсивном пространстве публичного жанра – менее привычный и, скорее всего, менее освоенный способностью человека труд, воспринимать рассуждения – сложнее, чем воспринимать нарративные сюжеты простого типа. В то же время мы видим, что в ситуации отсутствия хронотопа музыкальных событий это оказывается возможным и необходимым – для всех трех коммуникативных позиций в интервью (интервьюер – собеседник – зритель-читатель). Ментатив – более позднее (чем нарратив) явление в русской словесной культуре; можно говорить о том, что вообще развитие культуры маркируется ментативными моментами, которые связаны с творческой, философской, научной рефлексией и с процессами осознания и публичной диалогической переработкой человеческих ценностей и смысловых приращений. Процессы актуализации ментативного интервью в пандемию позволяют дополнительно видеть, как по отношению к нарративной линии развития русской словесности происходит некое волнообразно-ответное развитие ментатива. Новые витки этого развития и сама динамика нарративно-ментативных волн составляют одну из важнейших линий функционирования русской словесности в целом.
Перспективы исследования
В заключение добавим к исследовательским перспективам, высказанным в процессе изложения, те вопросы, которые могут быть продуктивны в качестве направлений дальнейшего изучения проблематики интервью. Мы рассмотрели лишь определенный тип интервью и заметили, что именно музыкальных интервью ментативного типа появляется значительное количество в обозначенный период. Что происходит в других поджанрах интервью (в областях культурной жизни, спорта, образования и др.)? Пандемия как фактор, повлиявший на перестройку жизни в целом, может по-разному конструировать разные виды дискурсивных пространств.
Продуктивен и вопрос о том, какие топики, мотивы ментативного интервью наиболее частотны, актуальны в музыкальных интервью. Какие топики универсальны для разных областей социокультурной жизни в этот период и в его сравнении с другими периодами? Вообще различение нарративного и ментативного интервью – одна из перспективных задач, решение которой приводит и к уточнению представления о типологии интервью в целом, и к прогнозированию тенденций развития этого жанра, и к рекомендациям по управлению процессами успешного отбора стратегий интервью. В целом наблюдение за конкуренцией нарратива и ментатива – важный ракурс исследования.
Еще один аспект изучения дискурсивных процессов описываемого типа – это совпадения и несовпадения коммуникативных действий интервьюера и интервьюируемого: когда, например, один из них задает ментативную инициативу, а другой отвечает нарративным образом, и наоборот. Подобное же можно наблюдать по отношению к инициированию той или иной стратегии интервьюером: насколько собеседник готов подхватить и правильно проработать в каждой стратегии; какие стратегии чаще и успешнее реализуются в диалогических единствах интервью, а какие мало освоены; какие стратегии более эффективны и для каких локусов интервью? Эти и другие вопросы, поставленные в контексте данного исследования, важны как для изучения дискурсивных процессов в целом, так и для прогнозирования актуальных тенденций развития конкретных журналистских жанров.
Список литературы Интервью вместо концертов: актуализация ментативных интервью музыкантов в пандемию
- Глембоцкая Я. О., Кузнецов И. В. Текст-ментатив в русской литературе XX-XXI веков // Идеи и идеалы. 2021. Т. 13, № 2, ч. 2. С. 382-394.
- Дымарский М. Я. Проблемы текстообразования и художественный текст. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1999. 284 с.
- Ильченко С. Н. Интервью в журналистском творчестве: Учеб. пособие. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2003. 93 с.
- Колесниченко А. В. Практическая журналистика: Учеб. пособие. М.: Изд-во МГУ, 2008. 178 с.
- Корчинский А. В. Форманты мысли. Литература и философский дискурс. М.: Языки славянской культуры, 2015. 288 с.
- Кузнецов И. В., Максимова Н. В. Текст в становлении: оппозиция "нарратив - ментатив" // Критика и семиотика. 2007. № 11. С. 54-67.
- Мажура А. В., Тимофеева Е. Д. К вопросу о жанровой классификации интервью в журналистском творчестве // Наука и Школа. 2019. № 3. С. 47-53.
- Максимова Н. В. "Чужая речь" как коммуникативная стратегия. М.: Изд. центр РГГУ, 2005. 317 с.
- Тюпа В. И. Введение в нарратологию: Науч.-учеб. пособие. М.: Intrada, 2016. 145 с.
- Hansen P. H., Iversen S., Nielsen H. S., Reitan R. (eds). Strange Voices in Narrative Fiction. Collective monograph. Berlin, De Gruyter, 2011, 196 p.