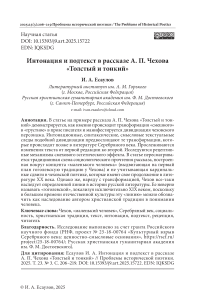Интонация и подтекст в рассказе А. П. Чехова «Толстый и тонкий»
Автор: Есаулов И.А.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 3 т.23, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье на примере рассказа А. П. Чехова «Толстый и тонкий» демонстрируется, как именно происходит трансформация «смешного» в «грустное» в прозе писателя и манифестируется дивидизация чеховского персонажа. Интонационные, синтаксические, смысловые текстуальные следы подобной дивидизации предвосхищают те трансформации, которые происходят позже в литературе Серебряного века. Прослеживаются изменения текста от первой редакции ко второй. Исследуются рецептивные механизмы смехового эстетического эффекта. В статье пересматривается традиционная схема социологического прочтения рассказа, построенная вокруг концепта «маленького человека» (выдвигающая на первый план гоголевскую традицию у Чехова) и не учитывающая кардинальные сдвиги в чеховской поэтике, которые имеют свое продолжение в литературе XX века. Однако же, наряду с трансформацией, Чехов все-таки наследует определенной линии в истории русской литературы. Ее неверно называть «гоголевской», локализуя исключительно XIX веком, поскольку в большом времени отечественной культуры эту «линию» можно обозначить как наследование автором христианской традиции в понимании человека.
Чехов, «маленький человек», Серебряный век, социаль- ность, христианская традиция, текст, интонация, подтекст, рецепция, читатель
Короткий адрес: https://sciup.org/147251694
IDR: 147251694 | DOI: 10.15393/j9.art.2025.15722
Текст научной статьи Интонация и подтекст в рассказе А. П. Чехова «Толстый и тонкий»
В прозе Чехова, начиная с его самых ранних юмористических рассказов, подписанных еще Антоша Чехонте , продолжается та линия русской литературы, которую иной раз, обращаясь к Гоголю, обозначают как «смех сквозь слезы» (см. подробнее: [Минц: 457–462]1). В то же время в чеховском творчестве можно заметить антиципацию некоторых трансформаций, характерных для русского Серебряного века. Притом странная грусть иной раз охватывает вдумчивого читателя даже и при втором, третьем и последующих прочтениях внешне «смешных» произведений, в которых — на первый, поверхностный взгляд, как будто бы и не должно быть никакого слишком печального, грустного, а иногда и невыносимо щемящего «серьезного» смыслового подтекста.
В рамках настоящей статьи мне бы хотелось продемонстрировать механизм подобного эстетического эффекта на материале не только хорошо известного, но даже и как будто «хрестоматийного» рассказа «Толстый и тонкий». В одной из последних статей, посвященных специально этому тексту Чехова, в названии которой обыгрывается заглавие известной работы Б. М. Эйхенбаума [Эйхенбаум], автор приходит к выводу, который в дальнейшем я попытаюсь кардинально скорректировать: «Идеологический аспект рассказа "Толстый и тонкий" как бы "двоится", демонстрируя и гнет "маленького человека" со стороны сильных и чиновных представителей общества, и готовность "маленького человека" и даже некоторую "предрасположенность" к этому гнету» [Беспрозваный: 162].
Начать можно, пожалуй, с вопроса, над которым чаще всего совершенно не задумываются. Кто из двух основных изображаемых автором персонажей, собственно, является предметом авторского осмеяния, а также над кем смеется читатель?
Разумеется, словом «читатель» обозначается в данном случае не социологическая категория эмпирических читателей, но некая совокупность смеховых рецепций, направляемых определенным вектором авторской интенции в тексте произ ведения: иным и словами, это категория поэтики (см. подробнее:
[Есаулов, 1995: 6–16]). Далее мы увидим, специально выделяя эстетические факторы смеха, что читатель смеется не над персонажами произведения Чехова — Толстым и Тонким, а исключительно над одним из них, что совершенно не учитывается ни в работах Минц и Беспрозваного, ни в других известных нам разборах чеховского рассказа (cм., напр.: [Чудаков], [Берд-ников]2). Может возникнуть даже несколько неловкое чувство. Ведь получается, что, направляемые авторской интенцией, мы смеемся вовсе не над богатым, сочувствуя бедному, как принято, так сказать, в прежних традициях классической («гуманистической») русской литературы XIX в., а, увы, над бедным. Казалось бы, уже одно это идет несколько вразрез с этими самыми традициями, предвосхищая трансформации Серебряного века. Как справедливо замечает О. В. Богданова, обращаясь при этом, правда, опять-таки преимущественно к гоголевскому «интертексту» этого рассказа, Чехов «смещает акценты, нарушает привычную аксиологию» [Богданова: 8].
Нужно разобраться в такой «странности», которая у Чехова с годами только усиливается. Если мы сопоставим тот вариант рассказа, который опубликован в «Осколках» в 1883 г., и тот вариант, который уже в измененной редакции, вышел в 1886 г., то можем заметить, что в первоначальной редакции Толстый еще является предметом комического изображения, над ним вполне можно посмеяться. А вот в итоговом канони ческом тексте нет уже ничего подобного.
В самом начале произведения присутствует повествователь с нейтральной интонацией, резко контрастирующей с последующими эмоциональными репликами встретившихся на вокзале Николаевской железной дороги приятелей. Он уже отлично видит, а потому то же видит и читатель (как, кстати, замечает своим «прищуренным глазом» более проницательный, нежели отец, сын Тонкого — Нафанаил), что два персонажа — Толстый и Тонкий — занимают совершенно разное социальное положение (уже и само заглавие, в соответствии с тогдашним представлением о толщине как благополучии и худощавости как социальном неблагополучии или нездоровье акцентирует то же самое). Повествователь замечает, что от одного (разумеется, Толстого) пахло благородным «хересом и флер-д’оранжем» [Чехов; т. 2: 250–251], тогда как от Тонкого всего лишь «ветчиной и кофейной гущей».
Что же касается персонажей как субъектов речи (а говорят в рассказе исключительно Толстый и Тонкий), то хотя перед нами два субъекта речи, но интонационно, стилистически и синтаксически автор наделяет их поначалу одним голосом. Если попытаться переставить слова «толстый» и «тонкий», то в смысловом плане не изменится ровно ничего, потому что в самом начале рассказа персонажи говорят на одном языке — языке дружбы :
«— Порфирий, — воскликнул толстый, увидев тонкого. — Ты ли это? Голубчик мой! Сколько зим, сколько лет!
— Батюшки! — изумился тонкий. — Миша! Друг детства! Откуда ты взялся?» [Чехов: 250].
Итак, перед нами три субъекта речи, если вспомнить еще и повествователя, чья нейтральная интонация резко контрастирует с речевой восторженностью друзей, но два субъекта сознания, поскольку Толстый и Тонкий сливаются в едином настроении: «Оба были приятно ошеломлены» [Чехов: 250].
Что же происходит дальше? Бросается в глаза разрастание реплик Тонкого. Небольшой по социальному весу Тонкий словно разбухает словесно. Его «реплики» огромны, несоразмерны его общественному статусу. Приведем для иллюстрации первую их них:
«— Милый мой! — начал тонкий после лобызания. — Вот не ожидал! Вот сюрприз! Ну, да погляди же на меня хорошенько! Такой же красавец, как и был! Такой же душонок и щеголь! Ах ты, господи! Ну, что же ты? Богат? Женат? Я уже женат, как видишь… Это вот моя жена, Луиза, урожденная Ванценбах… лютеранка… А это сын мой, Нафанаил, ученик III класса. Это, Нафаня, друг моего детства! В гимназии вместе учились!» [Чехов: 250].
В чем причина последующей смеховой катастрофы? В том, что Тонкий тремя своими огромными «репликами», каждая из которых, по существу, целая речь, продолжительное время не дает никакой возможности Толстому что-либо сказать в ответ. Текст, не считая первого и последнего абзаца, где субъект речи — повествователь, формально представляет собой диалог. Однако Толстый не успевает ответить на вопросы, ибо монологический поток речи (и сознания) Тонкого не позволяет ему сделать это: «Ну, что же ты? Богат? Женат? Я уже женат, как видишь… Это вот моя жена…».
В результате происходят вещи, не всегда замечаемые при поверхностном прочтении текста. Так, Тонкий трижды — на протяжении весьма короткого времени — «знакомит» Толстого со своей женой. Однако это троекратное представление (сопоставление двух и трех чрезвычайно существенно в этом рассказе) совершенно различно:
«Это вот моя жена, Луиза, урожденная Ванценбах… лютеранка… <…> А это моя жена, урожденная Ванценбах... лютеранка <…> Это вот, ваше превосходительство, <…> жена Луиза, лютеранка, некоторым образом…» [Чехов: 250–251].
Первый случай наименее эмоционален (хотя и он в русской языковой стихии фонетически осложнен самодовольнооглушительным «-бах» в девичьей фамилии жены, равно как и ее своего рода конфессиональным «диссидентством»: для того, чтобы обвенчаться с невестой инославного вероисповедания в православной Российской империи, необходимо было преодолеть значительные сложности). По-видимому, такого рода «необычность» супруги возвышает Тонкого в его собственных глазах, поэтому он и комически акцентирует именно эти моменты, представляя свою жену вторично (поскольку нет должной, как ему представляется, реакции друга на подобную
«неординарность»), к тому же убирая при этом нейтральное имя Луиза. Третий вариант представления возникает уже после того, как обнаружилась социальная пропасть между былыми приятелями. Немедленно появляется отставленное было (наименее диссидентски вызывающее) имя «Луиза», зато пропадает (ибо — в глазах Тонкого — оно ему не по чину, а потому и непозволительно) громкое «Ванценбах». Однако наиболее интересные трансформации претерпевает девичье вероисповедание невесты. Можно быть лютеранкой или не быть ею, можно в прошлом быть лютеранкой, но невозможно быть лютеранкой «некоторым образом». «Урожденная Ванценбах» именно лютеранка «некоторым образом» — в силу изменившейся ситуации. Извинительная интонация в данном случае (увы, слово не воробей — Тонкому необходимо как-то микшировать прежнюю неуместную громкость) хотя и обессмысливает фразу, но это не так страшно, как прежняя непозволительная ошибка в разговоре с таким важным лицом — «вашим превосходительством».
Это знаменитое завершение — «некоторым образом» — появилось лишь во второй (канонической) редакции, в «Осколках» оно еще отсутствовало. И здесь мы должны вернуться к двум редакциям рассказа. Уместно вспомнить известный анекдот из жизни Чехова: главная задача членов семьи, живших вместе с писателем, — это добраться до текста его рукописи и вовремя отнять ее у автора. Как известно, Чехов все время вычеркивал, как он считал, «лишнее», не умея вовремя остановиться. Но от размеров текста напрямую зависел гонорар: чем больше он вычеркнет, тем меньше заработает. Поэтому, согласно анекдоту, родственники и пытались отнять у него уже совершенно законченную рукопись. Однако в работе над рассказом «Толстый и тонкий» мы видим, напротив, прибавления, а не вычеркивания. О финальном же прибавлении несколько позже.
Пока же вернемся к интонации. Напомню, что в начале рассказа перед нами три субъекта речи, но два субъекта сознания (нейтральные высказывания повествователя и эмоционально окрашенные высказывания персонажей на едином языке дружбы). Затем же происходит распад этого былого единства речи (языка дружбы). Притом любопытно, что Толстый с начала и до самого конца остается в пределах общего языка дружбы, что подчеркивается неизменностью его интонации. Как бы ни хвалился Тонкий, второй раз представляя ему «урожденную Ванценбах», Толстый живо интересуется другом детства, а его речь и поведение остаются такими же, что и в начале встречи:
«Ну, как живешь, друг? — спросил толстый, восторженно глядя на друга. — Служишь где? Дослужился?» [Чехов: 251].
«Восторженно глядя на друга» — уже после того, как он, очевидно, так же хорошо, как и повествователь, видит настоящее социальное положение Тонкого, навьюченного на вокзале «чемоданами, узлами и картонками» [Чехов: 250]. Тем не менее, невзирая даже на слишком очевидную картину, свидетельствующую о том, что «жалованье плохое», на несоизмеримо длинные монологи Тонкого, препятствующие диалогу, на его оказавшееся неуместным хвастовство, мы не видим никакой негативной оценки друга Толстым. Напротив — он «восторженно» смотрит на друга детства, нынешнего коллежского асессора, сам являясь при этом уже тайным советником. Он остается в пределах человечности, верен былой дружбе, именно поэтому персонаж и не является предметом авторского осмеяния.
Что же Тонкий? Именно на уровне его речи Чехов демонстрирует распад сознания своего персонажа:
«Я, ваше превосходительство... Очень приятно-с! Друг, можно сказать, детства и вдруг вышли в такие, вельможи-с! <…> Помилуйте… Что вы-с… — захихикал тонкий, еще более съеживаясь. — Милостивое внимание вашего превосходительства… вроде как бы живительной влаги… Это вот, ваше превосходительство, сын мой Нафанаил…» [Чехов: 251].
Этот распад (который можно назвать — в терминологии французского постструктурализма — дивидизацией) проходит несколько этапов. Выше я контаминировал, отделив знаком <…>, две реплики Тонкого. Если в первой из них «ваше превосходительство» еще соседствует с «другом детства», хотя и с оговоркой, функция которой идентична обороту «некоторым образом»: «друг, можно сказать , детства» (выделено мной. — И. Е. ), то во второй именно Тонкий отрекается от былой дружбы:
«Помилуйте… Что вы-с…» [Чехов: 251]. «Ваше превосходительство» на речевом уровне уже полностью заместило прошлую дружбу. Бессмысленные обрывки предложений (каждая незавершенная фраза заканчивается многоточием, а не восклицательными знаками, как в начале рассказа) — отнюдь не результат «социальных условий», «влияния среды», «общественного неравенства» и прочих внешних факторов3. Это добровольный внутренний выбор самого персонажа, который испытывает не угнетение, а восторг (ошеломление) от обнаружившейся дистанции между ним и Толстым.
Однако и после этого тайный советник пытается как-то изменить ситуацию к лучшему:
«Толстый хотел было возразить что-то, но на лице у тонкого было написано столько благоговения, сладости и почтительной кислоты, что тайного советника стошнило. Он отвернулся от тонкого и подал ему на прощанье руку.
Тонкий пожал три пальца…». [Чехов: 251].
Обратим внимание: все-таки подал руку, однако былой друг угоднически пожимает лишь три пальца этой руки. Ни социальностью, ни устройством миропорядка подобное поведение коллежского асессора не объяснить. Такое поведение — его добрая воля, ему нравится добровольная приниженность, нравится угодничество. Он сам любит это. Тонкий ошеломлен вскрывшейся социальной дистанцией, и это ошеломление радостное (притом не только для него одного: «Все трое были приятно ошеломлены» [Чехов: 251]).
Теперь можно обратиться к самому смеху как предмету изображения. Смеется в рассказе (не считая читателя) только один персонаж — Тонкий. Вначале это самодовольное хо-хо :
«…ябедничать любил. Хо-хо…» [Чехов: 250].
Затем хи-хи-с :
«Друг, можно сказать, детства и вдруг вышли в такие, вельможи-с! Хи-хи-с» [Чехов: 251].
И, наконец, возникает третье изображение смеха, то самое чеховское «добавление», о котором уже шла речь выше, — хи-хи-хи :
«…поклонился всем туловищем и захихикал, как китаец: "хи-хи-хи"» [Чехов: 251].
В первой же редакции рассказа, опубликованной в «Осколках», где вообще социальный момент еще крайне важен, а потому дистанцию порождает «надувшись… как индейский петух» сам Толстый (оказавшийся начальником Тонкого), эта фраза заканчивалась так:
«…поклонился всем туловищем и захихикал» [Чехов: 439].
Почему же возникло это прибавление: «как китаец»? Представляется, что, находясь в пределах русской культуры, Тонкий все-таки не может выразить ту степень добровольного чинопочитания, которую он желал бы выразить. Просто потому, что в русской культуре невозможна та степень чинопочитания (и настолько трепетное отношение к социальной иерархии), которая возможна в культуре китайской (по крайней мере, согласно русским же стереотипам мироощущения). Поэтому, оставаясь в рамках русского языка, для Тонкого и невозможно выразить желаемое. Ему для этого нужно перейти на китайский язык («захихикал, как китаец»), стать китайцем («поклонился всем туловищем»: здесь неявная отсылка к всегда улыбающемуся и кивающему головой китайскому болванчику). Тонкий заговорил по-китайски, чтобы до конца дистанцироваться от своей прошлой дружбы.
Это «хи-хи-хи», которое вписал вычеркивающий все «лишнее» Чехов, — единственное вкрапление прямой речи персонажа в столь же отстраненно-нейтральную, как и в начале рассказа, интонацию чеховского повествователя.
Вспоминая детские шалости, Тонкий в первой же своей обширной реплике упоминает об Эфиальте, которым дразнили его в гимназии «за то, что <…> ябедничать любил». Кто же такой Эфиальт? Это тот, кто предал триста спартанцев; тот, кто тем самым отрекся от своего культурного родства с ними. В рассказе мы также видим предательство старой дружбы и добровольное отречение от нее. Отречение (в конце концов, и от своей собственной культуры, от своего родного языка, добровольное превращение в «китайца») является выбором самого персонажа4. Оно не продиктовано никакими «социальными факторами», так значимыми для прежней русской литературы XIX в., особенно периода его завершения. Эта деградация является комичной только на уровне его речевого поведения, где наблюдается последовательная дивидизация персонажа. В целом же она чрезвычайно печальна — особенно во втором варианте этого рассказа, будучи не спровоцирована никакими «общественными», «извиняющими» обстоятельствами. Да, мы как читатели смеемся в данном случае именно над бедным, а не над богатым. Но это не должно нас смущать, потому что в этой паре персонажей именно Толстый — с начала и до конца — сохраняет свое человеческое лицо и не подвергается речевому распаду (дивидизации). Именно он пытается всеми силами остаться в пределах дружбы, что ему так и не позволяет сделать его былой друг.