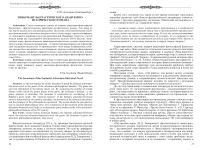Инвариант фантастического авантюрно-исторического романа
Автор: Козьмина Елена Юрьевна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Теория литературы. Текстология
Статья в выпуске: 2 (33), 2015 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена одному из жанров авантюрно-философской фантастики - фантастическому авантюрно-историческому роману. Этот жанр до сих пор не выделялся в литературоведении. На основе сопоставления ряда подобных произведений, относимых автором статьи к этому жанру, строится инвариант, т.е. описывается жанровая структура произведений. Инвариант строится с учетом модели жанра как «трехмерного конструктивного целого» (М.М. Бахтин). «Внутренняя мера» фантастического авантюрно-исторического романа определяется двумя художественными принципами - исторической авантюрностью и философской экспериментальностью. В произведениях этого жанра изображенные события должны быть восприняты как достоверные, притом в глобально-философском плане. Создание инварианта фантастического авантюрно-исторического романа поможет определить жанровые границы внутри авантюрно-философской фантастики ХХ в.
Научная фантастика, историческая фантастика, фантастический авантюрно-исторический роман, классический авантюрно-исторический роман, жанр, инвариант жанра, авантюрно-философская фантастика, путешествие во времени
Короткий адрес: https://sciup.org/14914494
IDR: 14914494
Текст научной статьи Инвариант фантастического авантюрно-исторического романа
Фантастическую литературу XX в., по традиции именуемую научной фантастикой, часто называют жанром. Однако такого рода фантастическая литература, конечно, не жанр, а система жанров. Е1о если не дифференцировать отдельные, составляющие эту систему, жанры, не обозначить их границы, довольно затруднительно определить как специфику самой области авантюрно-философской фантастики (определение Н.Д. Тамарченко1), так и художественные особенности того или иного конкретного произве- дения.
Кроме того, изучение под таким углом зрения позволяет проследить динамику развития этой области фантастической литературы, взаимоотношения с другими жанровыми системами. Известный исследователь в области жанрологии Н.Д. Тамарченко писал:
«... адекватно понять смысл литературного произведения и в особенности - смысловые связи, существующие между ним и произведениями предшествующих эпох, можно преимущественно через жанр. И если мы хотим рассматривать литературу эпохи не только в современных ей условиях, но и в широком и при этом естественном для нее историческом контексте (как говорил М.М. Бахтин, в “большом времени”), мы должны заниматься в первую очередь жанром»2.
Характеризовать систему жанров авантюрно-философской фантастики XX в. еще рано. Пока делаются отдельные попытки описать некоторые эмпирически выделяемые жанры, например, в журнале «Мир фантастики» (киберпанк, альтернативная история, хроноопера и пр.)3; вышли монографии Е. Петуховой и И. Черного «Современный русский историко-фантастический роман»4, А. М. Лобина «Повествовательное пространство и магистральный сюжет современного историке-фантастического романа»5. При всем новаторском характере этих исследований проблема требует дальнейшей, более существенной и более широкой (да иногда и более научной!), разработки.
Настоящая статья - часть этой работы; она решает задачу создания инварианта жанра, генетически восходящего к классическому авантюрноисторическому роману и сохраняющему целый комплекс присущих ему черт6. Трансформированный вариант назовем по аналогии с исходным жанром - «фантастический авантюрно-исторический роман».
До сих пор такой жанр в специальной литературе не выделялся (говорили чаще всего об «исторической фантастике», «альтернативной истории», «путешествиях во времени»; наиболее близок «историко-фантастический роман», однако четкие жанровые границы его не определены - см. упомянутые выше монографии).
К фантастическому авантюрно-историческому роману относятся произведения, имеющие схожую жанровую структуру: «Меж двух времен» и «Меж трех времен» Дж. Финнея, «Время для мятежника» Г Гаррисона, «Где-то во времени» Р. Матесона, «Трудно быть богом» А. и Б. Стругацких, «Подземелье ведьм» Кира Булычева, «Стрела времени» М. Крайтона, «Врата Анубиса» Т. Пауэрса и целый ряд других. При их сопоставительном анализе отчетливо прослеживается инвариант, общая структурная основа, несмотря на то, что произведения очень разные. Об этом инварианте и пойдет речь.
«Внутренняя мера» (Н.Д. Тамарченко)7 фантастического авантюрноисторического романа определяется двумя художественными принципами - исторической авантюрностью и философской экспериментальностью. Это означает, что каждое произведение в интересующем нас жанре непременно включает в себя приключения героя в более или менее отдаленной исторической эпохе и наравне с этим ставит проблемы эксперимента с историей: возможности ее изменения / сохранения; оценки и переоценки прошлого; связи поколений и т.п.
Построение инварианта фантастического авантюрно-исторического романа будет строиться по модели жанра как «трехмерного конструктивного целого» (М.М. Бахтин), включающей 1) мир героя, 2) субъектно-речевую структуру, 3) тип границы между миром героя и миром автора и читателя8.
Сюжет испытания и тип героя в фантастическом авантюрно-историческом романе
Основная сюжетная ситуация в фантастических авантюрно-исторических романах - перемещение героя во времени, причем обязательно в прошлую эпоху. Однако само по себе событие перемещения в прошлое (Time-Travel) не делает произведение фантастическим авантюрно-историческим романом; автор может использовать этот сюжетный ход для решения совсем иных задач. Для интересующих нас произведений важно не столько перемещение, сколько выраженное отношение к истории и ее закономерностям, проблема влияния на историю, и потому изображение собственно процесса перемещения во времени иногда редуцируется чуть ли не до абсолютного минимума. В «Попытке к бегству» А. и Б. Стругацких, например, на это есть только намек:
«Вы знаете профессора Антонова? - Нет. - Очень крупный специалист. Мой идейный противник. Он попросил меня проверить некоторые аспекты его новой теории. Ведь я не мог не согласиться, правда? Вот так мне и пришлось... покинуть пенаты...»9 (дальнейшие цитаты даются по этой публикации), и это, собственно, все, что в повести говорится о том, как Саул попал из 1943 г. в будущее. В некоторых романах («Где-то во времени» Р. Мате-сона, «Меж двух времен» Дж. Финнея) объяснение способа перемещения занимает значительно больше места, но этот способ, как правило, немудрен - гипноз, внутренне-психологическое вживание в эпоху и т.п.
Тип сюжета в таких романах - авантюрный, следовательно, мы можем говорить об определенных испытаниях героя10.
Авантюрный сюжет, как писал М.М. Бахтин, «глубоко человечен», его определяют «задачи, продиктованные его (героя - Е.К. ) вечной человеческой природой - самосохранением, жаждой победы и торжества, жаждой обладания, чувственной любовью...»11. Это и есть испытание на человечность, присущее всей авантюрно-философской фантастике; на то, что «делает человека человеком» (Н.Д. Тамарченко).
Как организуется и конкретизируется это испытание? Чтобы ответить на этот вопрос, проанализируем тип и позицию героя в фантастическом авантюрно-историческом романе. При перенесении в чужую эпоху герой может выбрать лишь одну из двух основных стратегий: 1) вжиться в прошлое, укорениться в нем или 2) встать «над» прошлым, над людьми этой эпохи, используя свое знание о будущем (так, в соответствии со второй стратегией, поступает, например, Хэнк Морган из «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура»; произведение это, отметим попутно, не является фантастическим авантюрно-историческим романом).
Во всех романах интересующего нас типа герой пытается сродниться с эпохой, вжиться в нее, стать одним из людей того времени, несмотря на то, что имеет совершенно иной статус, чем другие. Этот статус определяется кругозором героя, позволяющим ему совмещать знание о настоящем (прошлом по отношению к герою) и будущем (настоящим героя).
С этими вопросами связан устойчивый мотив фантастического исторического романа - приравнивание человека (или человечества в целом) к Богу, те. к такому существу, которое может значительно больше (и имеет значительно более широкий кругозор), но в то же время не должно мешать естественному ходу событий (см., например, высказывание-пожелание одного из персонажей романа Дж. Финнея «Меж двух времен»: «Нельзя ли было бы каким-то образом ввести - я бы сформулировал так - “абсолютного наблюдателя”? Никому не ведомого и не видимого, не влияющего ни на какие события...»12, далее цитаты приводятся по этому изданию). Так, в романе Стругацких «Трудно быть богом» этот мотив проблематизирован уже в заголовке. В «Подземелье ведьм» К. Булычева Андрей и Жан обсуждают эту идею: «Опасно быть богом... - Опасно полагать себя богом, - поправил Андрея Жан»13. В «Меж двух времен» Дж. Финнея подобному рассуждению Саймона посвящен целый фрагмент, заканчивающийся словами: «Теперь-то я твердо знал, что не брошу Джулию на произвол судьбы, словно мы там у себя, в двадцатом веке, боги, а она ничто» (277), «.. .ты не совсем человек»14, - говорит Ричарду Элиза в романе «Меж двух времен» и т.д. (Далее текст романа цитируется по этой публикации).
Такой статус героя создает новый тип испытания - между человечностью, причастностью к людям прошлого, и «божественным всезнанием и всеведением». Подобное испытание вводится целым комплексом мотивов.
Во-первых, это мотив крови, основная функция которого - буквальная передача «кровной» причастности героя к прошедшей эпохе (если отвлечься от традиционной лиминальной функции мотива - знака временной смерти, прохождения через смерть в «ином» мире).
«Кровная» причастность героя к эпохе возможна лишь в условиях дво-емирия, те. наличия «чужого» пространства и / или времени, таким образом преодолевается «чуждость» прошлой эпохи и она становится кровно близкой (ср., например, фрагмент хоть и нефантастического и неисторического романа А. Иванова «Географ глобус пропил», но все же очень показательный: «И вот теперь у них под ногами словно земля заговорила. До самых недр, до погребенных костей звероящеров, она вдруг оказалась насыщенной смыслом, кровью, историей»)15. Герой, проливая свою кровь в чужом для него времени, «оживляет» эту эпоху для себя. В основе такого «оживления» лежит древнее представление о крови «как жизни»: «помазать новый предмет кровью значит одарить его жизнью и силой»16. Во-вторых, это мотив еды, изображение трапезы как определенного ритуала, а ритуалы связаны «с историей и свидетельствует об определенных исторических формах жизни и миропонимания»17.
Первоначально, в фольклоре, мотив еды связан с иным миром. Так, В. Пропп пишет: «Это позволяет нам поставить вопрос о связи испытания едой с пребыванием в ином мире»18.
О.М. Фрейденберг, анализируя первобытное мировоззрение, писала о «метафоре еды», в которой «акт еды в представлении древнего человека соединялся с кругом каких-то образов, которые прибавляли к трапезе как к утолению голода и жажды, еще и мысль о связи акта еды с моментами рождения, соединения полов и смерти»19.
Рассмотрим эту метафору подробней. Исследовательница пишет: «Проглатывая, человек оживляет объект еды, оживая и сам; “еда” - метафора жизни и воскресения. <...> С едой, таким образом, связано представление о преодолении смерти, об обновлении жизни, о воскресении»20. Смерть при этом является неотъемлемой частью рождения («рождающая смерть»), а стало быть, и «вечной жизни». Таким образом, герой «оживляет» себя в чужом для него времени.
И здесь актуализируется древняя функция еды - «приобщение человека к тотему, роду...»21, «...общность еды, - писал В. Я. Пропп, - создает общность рода. “Только члены семьи или рода могут участвовать (в трапезе). Если чужеземцу разрешается принимать участие, то этим он принимается в род или становится под его защиту” (Nilsson 75)»22.
Любопытно, что этот мотив - довольно точная подсказка при конструировании читательского «горизонта ожидания». В романах, где герой принимает пищу в прошлой эпохе, и принимает ее с удовольствием, он впоследствии решает остаться («Меж двух времен» Дж. Финнея, «Время для мятежника» Г. Гаррисона и др.). Там же, где герою есть трудно, он не удерживается в прошлом времени («Где-то во времени» Р. Матесона).
Два этих мотива - еды и крови - позволяют вспомнить один тезис в работе М.М. Бахтина «Автор и герой в эстетической деятельности». Ученый пишет о том, что время и пространство жизни человека по-разному воспринимаются с разных позиций. Так, с теоретической («физико-математической») точки зрения - это отрезки «единого бесконечного времени и пространства», что придает им «смысловую однозначность и определенность». С внутренней же точки зрения, «изнутри человеческой жизни», с позиции «ценностного центра», время и пространство «уплотняются, наливаются кровью и плотью (выделено мной - Е.К.)»23. Если применить это высказывание к фантастическому авантюрно-историческому роману, то можно увидеть, что для его героя историческая эпоха в буквальном смысле приобретает плоть (как еда, которую герой поглощает) и кровь (которую он оставляет в этом времени).
Подобные же функции причастности к историческому прошлому выполняет в фантастическом авантюрно-историческом романе мотив переодевания в одежду прошлой эпохи:
«Предмет за предметом он надел новую одежду. Хлопковое исподнее до лодыжек, грубые штаны. Хлопковая рубашка и бесформенная куртка, разорванная на плече и зашитая. Заплаты на локтях другого цвета. Стачанные вручную высокие ботинки с грубыми подошвами на гвоздях, хорошо стоптанные и пыльные. Комплект завершился старой широкополой соломенной шляпой с обвисшими краями... Собравшись на выход, Трой увидел себя в зеркале и застыл. На него смотрел неизвестный. Это был не маскарад - это было настоящее. Плотного сложения негр в здорово поношенной одежде. Там, куда он собирался, люди одевались именно так. Ни нейлонового белья, ни застежек-молний, ни автомобилей или самолетов. Другой век»24 («Время для мятежника», дальнейшие цитаты даются по этой публикации).

Но, пожалуй, самый важный мотив, передающий включение героя в эпоху, - это мотив любви и/или дружбы. В таких романах, как «Где-то во времени», «Меж двух времен», «Трудно быть богом» любовь к женщине из прошлой эпохи вынуждает героя к принятию времени, вызывает желание укорениться в эпохе. Ср.:
«Мое присутствие в 1896 году напоминает проникновение чужеродной песчинки в устричную раковину. Чужак для этой эпохи, я мало-помалу покроюсь самозащитной - и поглощающей - оболочкой и постепенно окажусь внутри нее. Со временем моя песчинка обрастет этой эпохой, и я стану совершенно другим существом, позабыв свои корни и ведя жизнь человека этой эпохи» («Где-то во времени»),
В романах «Время для мятежника» эту функцию выполняет дружба Троя Хармона с Робби Шоу и бойцами «черного батальона», которых Трой называет «братство».
В романе «Трудно быть богом» есть оба мотива. Так, дон Румата влюбляется в Киру (правда, любовь к ней заставляет его не укореняться в Арканаре, а стремиться уехать оттуда вместе с Кирой; но, тем не менее, благодаря Кире, герой начинает видеть в Арканаре хоть какие-то ростки человеческого). Изображена также его дружба с бароном Пампой, причем важно, что именно в его компании оказывается дон Румата, когда они едут пировать. Барон Пампа при этом ест за троих, а дон Румата скромно сидит рядом, «обсасывая крылышко цыпленка»25 (далее в тексте в круглых скобках даются страницы по указанному изданию).
Мы видим, что включение героя в реальную жизнь давно прошедшего века, изображенное с помощью перечисленных мотивов - еды, одежды, крови; темы любви и дружбы, нужно для того, чтобы «...показать прошлое живым. Превратить его в действительность»26, где герой, который «знал историю по книгам», «начинал чувствовать ее собственной шкурой...» («Время для мятежника» Г. Гаррисона).
Эта одна из наиболее важных черт фантастического авантюрно-исторического романа - «оживление» истории.
Нужно заметить, что в классическом авантюрно-историческом романе такое «оживление», «очеловечивание» тоже есть. Так, М.М. Бахтин, характеризуя развитие формы исторического времени, пишет о стремлении «перенести историю в реальное, обжитое, конкретизированное, очеловеченное время - бытовое, интимно-психологическое, семейно-биографическое, даже обыденно-житейское; почувствовать историю в приватных комнатах, у очага, в интимных переживаниях, размышлениях и чаяниях частного человека, в семейном быту, в частной человеческой судьбе и т.п. Эти временные ряды были реалистически освоены, <.. > измерены живыми человеческими масштабами»27.
«Перенесение истории» в «приватные комнаты» - это и есть «оживление истории». Но здесь необходимо понимать, для кого эта история «оживает». Для самого героя классического исторического романа она и так жива, и более того - происходящее не является для него историей. Описанные события является историей для читателя, именно для него автор и старается «оживить» историю. Этот процесс происходит в хронотопе читателя. В фантастическом варианте исторического романа «оживление истории» происходит в ином хронотопе - во внутреннем мире произведения, история оживает здесь для героя.
Важно и то, что герой попадает в чужую эпоху, как правило, совсем не случайно, он ее выбирает, и в основе выбора - личная заинтересованность в этом времени. Так, например, Саймон Морли в «Меж двух времен», участвуя в эксперименте, преследует личные цели: «Чтобы... чтобы увидеть, как один человек отправляет письмо...» (85). Интересно, что и руководитель проекта - доктор Данцигер - тоже проявляет личный интерес к выбранному Саймоном Морли периоду времени:
«Знаете, - с улыбкой сказал Данцигер, - вы вводите меня в искушение. В 1882 году моей матери исполнилось шестнадцать лет. В день ее рождения - 6 февраля -родители и старшая сестра повели ее в театр Уоллака, и именно там она познакомилась с моим отцом. <...> Но если вдруг удастся, Сай, если вы действительно попадете в Нью-Йорк той поры и, стоя незаметно где-нибудь в уголке фойе, увидите их встречу... Раз уж есть одна личная причина, почему бы не появиться и второй? Я был бы очень вам признателен, если бы вы набросали для меня их портреты, какими они были тогда» (93-94).
Герой романа Т. Пауэрса «Врата Анубиса» Брендан Дойль переносится в 1810 г, чтобы послушать лекцию Кольриджа по «Ареопагитике» Мильтона, а заодно «задокументировать биографию» поэта Эшблеса, которым он занимается профессионально.
Трой Хармон - афроамериканец - переносится во времена подготовки Гражданской войны, иначе, как он считает, история изменится и рабство не будет отменено.
Сугубо личные цели перемещения во времени - у героя романа Р. Ма-тесона «Где-то во времени», это страстная любовь к актрисе XIX в. Элизе Маккенна.
Приключения героя в прошлой эпохе, новый статус героя создает и новый тип испытания - возможность / невозможность воспринять историю живой, человечной, укорениться в ней как в собственном времени; а также между человечностью и «божественным всезнанием и всеведением». Таково смысловое наполнение авантюрного сюжета.
Но испытание на человечность - лишь частный случай авторского эксперимента, испытания философской идеи.
Кстати, именно с экспериментальностью связана такая черта, как «научность», позволившая в свое время назвать систему жанров, куда входит и фантастический авантюрно-исторический роман, «научно-фантастической фантастикой». Экспериментальность и «научность» вводят в произведения исследуемого жанра еще один устойчивый мотив - упоминание имени Эйнштейна, см. показательный пример - фильм реж. О. Липско-го о путешествии во времени «Я убил Эйнштейна, господа» («Zabil jsem Einsteina, panove»). Эйнштейн (имя или образ) - своеобразный знак, символ иной, неклассической научной парадигмы, где время относительно и зависит от наблюдающего (переживающего) его субъекта, а «стрела времени», соответственно, вполне может менять свое направление.
Испытание идеи в романах неотделимо от испытания персонажей, они теснейшим образом переплетаются.
Во-первых, ставится проблема вмешательства в исторический ход событий: можно ли это делать с точки зрения моральной, а не только физической? Кто имеет право на это? Каковы цели и мера вмешательства в историю? Не перестанет ли человечество быть тем, что есть, если получит возможность менять свою историю? При этом эксперимент по решению таких проблем могут ставить и персонажи - целая научная группа, как в «Меж двух времен» или «Трудно быть богом», сам герой - как в «Где-то во времени» и т.д.
Как правило, эта идея испытывается словесно, в обсуждениях персонажей, в форме диалога. Сюжетное испытание этой формы идеи встречается довольно редко (в качестве примера можно привести эпизод «взятия языка» из «Попытки к бегству» Стругацких, когда освобождение рабов, сопровождающих Хайру обернулось их гораздо большим закабалением).
Во-вторых, автор и герои ищут ответы на такие вопросы: а может ли человек оставаться человеком, не вмешиваясь в то, что происходит на его глазах, т.е. под силу ли ему позиция взвешенного и спокойного «абсолютного наблюдателя» (Дж. Финней), Бога?
Эта идея испытывается на уровне сюжета цепью тех исключительных событий, в которые попадает герой. О такого рода испытании говорит в «Попытке к бегству» А. и Б. Стругацких главный герой Саул: «А что вы будете делать, когда придется стрелять? А вам придется стрелять, Вадим, когда вашу подругу-учительницу распнут грязные монахи... И вам придется стрелять, Антон, когда вашего друга-врача забьют насмерть палками молодчики в ржавых касках! И тогда вы озвереете и из колонистов превратитесь в колонизаторов...».
И действительно, во всех фантастических исторических романах герой вынужден принимать решение между невмешательством и помощью близким. Так, Трой Хармон отказывается возвращаться в свое время и остается сражаться на войне, даже зная, что завтра его убьют, потому что «они (солдаты черного батальона - Е.К.) были боевой единицей, одной семьей - лучшие из всех бойцов, с которыми Трою пришлось служить. Братство» и потому, что «он почувствовал, что не может оставаться безучастным среди этих хороших парней, идущих на самоубийство. Его долг перед ними, перед делом, в которое они все верили, предупредить их. Пусть изменится какая-то сноска в толстых книгах, но эти люди заслуживали лучшей участи, чем овечья гибель под ножом мясника». В «Трудно быть богом» Румата, долго терпящий то, что происходит в Арканаре, не выдерживает позиции Бога в тот момент, когда Киру убивают арбалетной стрелой через окно, после чего «...видно было, где он шел»: «Одна арбалетная стрела пробила ей горло, другая торчала из груди. Он взял ее на руки и перенес на кровать. Кира... - позвал он. Она всхлипнула и вытянулась. Кира... - сказал он. Она не ответила. Он постоял немного над нею, потом подобрал мечи, медленно спустился по лестнице в прихожую и стал ждать, когда упадет дверь» (160).
Можно привести множество подобных эпизодов и из других фантастических авантюрно-исторических романов.
Проблема вмешательства в чужое время и чужие события тесно связана с мотивом крови и с мотивом Бога; кровь оказывается знаком живого человека, человечности вообще, т.е. признаком, позволяющим различать Бога и человека (у Бога крови не бывает), а также объединяющей всех людей субстанцией.
Как уже было сказано, в фантастическом авантюрно-историческом романе испытание идеи не абстрактно, идея испытывается вместе с человеком, и это, как бы парадоксально такое сближение ни выглядело, заставляет нас обратиться к романам Достоевского как источнику, оказавшему заметное влияние на авантюрно-философскую фантастику в целом, и на фантастический авантюрно-исторический роман - в частности.
Согласно М.М. Бахтину, при изображении идеи Достоевский придерживается как минимум двух условий: 1) «всякую мысль он воспринимает и изображает как позицию личности»28, а «образ героя неразрывно связан с образом идеи и неотделим от него» (99; здесь и далее в тексте, кроме специально оговоренных случаев, в круглых скобках даются страницы по указанному изданию); 2) с изображением идеи у Достоевского связано понятие самосознания героя как «незавершенного ядра личности» и диалогичности мышления («Идея - это живое событие, разыгрывающееся в точке диалогической встречи двух или нескольких сознаний», 100).
При этом нужно учитывать, что «герой Достоевского - человек идеи; это не характер, не темперамент, не социальный или психологический тип: с такими овнешненными и завершенными образами людей образ полноценной идеи, конечно, не может сочетаться» (97).
В фантастическом авантюрно-историческом романе самосознание героя, как у Достоевского, не изображено; и герой здесь не характер как «лицо самоопределяющееся, выбирающее собственную роль и в жизни в целом, и в качестве участника отдельного события»29, не тип как «готовая форма личности»30; но и не «незавершенное ядро личности», а особая форма как совокупность «признаков человеческого мира»31. Оттого все наиболее значимые поступки героя теряют индивидуальную окрашенность и проецируются на человечество: см., например, такие высказывания: «Мы люди, и давайте действовать как люди» («Попытка к бегству»); «Ты особый случай, Трой Хармон. Ты не один, а целых два раза поступил так, что заставил меня гордиться принадлежностью к человеческой расе» («Время для мятежника») и т.п. Отсюда - некая усредненность образа героя, его «общечеловечность», определенный схематизм изображения, т.е. то, что Р.П. Нудельман назвал воплощением «“чистых сущностей”»32 и за что отдельные литературоведы отказывают фантастике в ее претензиях на «высокую» литературность.
Зачастую идея испытывается только «теоретически», т.е. в форме диалогов персонажей; чаще всего - та ее грань, которая связана с проблемой вмешательства в исторический процесс.
Обсуждение теории времени и возможности вмешательства связано с двумя постоянными мотивами: определением времени как реки и упоминанием открытия (или просто имени) Эйнштейна. Иногда такие диалоги почти дословно повторяют друг друга, ср., например, фрагменты дискуссий между героями 1) в романе Дж. Финнея «Меж двух времен» и 2) фильме реж. Р.У. Бейкера «Дом на площади (Я никогда не забуду тебя)» (сценарист Р. Макдугалл):
-
1) «...Я мог бы говорить и говорить - список открытий Эйнштейна очень внушителен. <.. > Однажды он заявил, что наши концепции времени в значительной мере ошибочны. <.. > Он говорил, что мы вроде людей в лодке, которая плывет без весел по течению извилистой реки. Вокруг мы видим только настоящее. Прошлого мы увидеть не можем - оно скрыто за изгибами и поворотами позади. Но ведь оно там осталось!.. <.. > И мое небольшое дополнение к великой теории Эйнштейна состоит в том, что человек... что человек может и должен суметь сойти с лодки на берег. И пешком пройти вспять к одному из поворотов, оставленных позади» (68-69);
-
2) Питер: «Генри Джеймс объяснял это так. Вы плывете в лодке по извилистой реке, вы наблюдаете берега, как они уходят вверх по течению, вы проплываете мимо кленовой рощи. Но после того, как вы минуете их, они остаются в прошлом. Теперь вы проплываете мимо поля с клевером, оно становится настоящим. Вам неизвестно, что откроется за следующим поворотом реки. Это могут быть замечательные вещи, но вы не увидите их, пока не пройдете очередной изгиб и не попадете в будущее. Но предположите, что я нахожусь в самолете, я смотрю вниз на все это. Я вижу клены, поле с клевером и все прочее; ваше прошлое, ваше настоящее и ваше будущее. Они видны мне, одному человеку в самолете, и для меня время видится как одно целое».
Иногда сопряжения «реки» и «времени» в романе отрицается (см., например, в романе М. Крайтона «Стрела времени»:
«Сама концепция путешествия во времени не имеет смысла, так как время не течет. На самом деле представление о том, что время проходит - лишь особенность восприятия человеческой нервной системой событий и явлений. В действительности время не проходит - проходим мы. Само время инвариантно. Оно просто есть. Поэтому прошлое и будущее не являются различными местами, как, например, Нью-Йорк и Париж. И так как прошлое не является местом, вы не можете попасть туда)», но обсуждение такого представления о времени все-таки есть.
Диалоги, в которых испытывается идея, могут быть обширными, пространными, а могут и сокращаться до минимума. Сокращение происходит, как правило, в средних и малых жанрах: см., например, в новелле Г. Кат-тнера «Лучшее время года» разговор Оливера и композитора из будущего Сеибе о возможности изменения истории и предотвращения катастрофы и последующей эпидемии; вступление в новелле Р. Шекли «Три смерти Бена Бакстера». В «Целителе» Т. Томаса герою Ганту и разговаривать-то не с кем - его окружают доисторические люди, но его монолог вполне диалогизирован: «Кивнув собственным мыслям, Гант двинулся вверх по тропе к своей пещере»33.
Итак, для сюжета фантастического авантюрно-исторического романа, построенного на основе перемещения героя в прошлое, характерно сочетание авантюрности и экспериментальности, испытание человека и идеи (сюжетное и дискурсивное), а также комплекс устойчивых мотивов.
Время и пространство в фантастическом авантюрно-историческом романе
Поскольку мы говорим об историческом романе, хотя и об особой, фантастической, его разновидности, то тезис о доминировании здесь формы исторического художественного времени не требует доказательств. Однако эта форма весьма специфична, ведь нарушается одна из важнейших его характеристик - необратимость (другие его признаки - линейность, непрерывность, бесконечность и всеобщность34). Кроме того, историческое художественное время почти не выступает в романах анализируемого типа в чистой форме; оно сращено со всеми прочими.
Во-первых, оно связано с природно-циклическим временем. Герой попадает не просто в прошлую эпоху, а в конкретный промежуток времени, в конкретный день (иногда главы романа в качестве названия имеют даты - день, месяц и год). Как мы увидим дальше, автору важно не просто изобразить эту эпоху, а «укоренить» в ней героя, заставить его прожить этот день или дни, и потому нужно изобразить его ощущения от чужого ему времени - погоду, впечатления от города, людей, одежды, надетой на героя, еды и т.п.
Таким образом, историческое время соединяется еще и с бытовым (семейно-бытовым), а также биографическим временем - временем жизни героя. Это отражается и в композиции романа. Как правило, в ней есть своего рода пролог - описание жизни героя до его перемещения в чужую эпоху, а в случае возвращения героя в свой век - и эпилог. В этих обрамляющих частях изображена обыденная, частная жизнь героя, нарушаемая его путешествием в чужую эпоху.
Во время пребывания в чужом времени структура художественного времени еще усложняется. С одной стороны, автор стремится показать обыденную жизнь в прошлом веке (и это дальнейшее развитие формы биографического и бытового времени), ритуалы и «маленькие церемонии» (Дж. Финней), принятые в этой жизни, а с другой стороны, пребывание в чужой эпохе и испытание героя - это время авантюрное, выпадающее из обычного течения времени35. С ним связаны все типические авантюрные мотивы: похищение, побег, преследование, подслушивание и подсматривание, переодевание и ряд других.
Это испытание особого рода - испытание «бытом» эпохи, что и ведет к сращению авантюрного и бытового времени.
Автору необходимо представить жизнь прошлой эпохи как ценность для героя. И потому в романе появляется изображение частной жизни -семьи, друзей, любимых людей, детей и т. и. Но в то же время, фантастический авантюрно-исторический роман не изображает исторических деятелей (при том, что какие-то из них, живущие в изображенную эпоху, обязательно упоминаются). Ни один из исторических деятелей не является актантом такого типа романа, что резко отличает фантастический вариант от классического авантюрно-исторического романа.
И, наконец, историческое время испытывает на себе влияние мифопоэтической формы времени, которое вносит в этот временной художественный гибрид свойство обратимости. «Мифическое время... прерывно, конечно и обратимо», причем, как отмечает Н.Д. Тамарченко, в литературе
Нового времени и более поздней, эта форма времени может быть связана с «критикой Истории»36.
Образным воплощением сочетания исторического и мифопоэтического времени в фантастическом авантюрно-историческом романе становится сопоставление течения времени с рекой, о котором мы уже говорили выше.
Восприятие времени как реки - известный и довольно хорошо разработанный литературный мотив. Этот образ, вероятно, восходит к геракли-товскому пониманию движения времени, выраженному в формуле «все течет, подобно реке»37, и в фантастическом авантюрно-историческом романе позволяет совместить два противоположных представления о времени.
Во-первых, образ реки в некоторых случаях синонимичен образу пути, причем пути, имеющему направление и исток; и в этом смысле река символизирует время истории (ср. понятие «стрелы времени» в физике). Это позволяет актуализировать такие характеристики художественного исторического времени, как линейность и непрерывность.
Совершенно не случаен синонимичный реке образ дороги в рассматриваемых нами произведениях. Так, в «Трудно быть богом» это анизотропное шоссе, открыто сопоставляемое с историей: «Шоссе было анизотропное, как история. Назад идти нельзя. А он пошел» (161), в романе «Время для мятежника» это Дорога - путь в Вашингтон и одновременно способ (канал) переправки беглых негров (так в тексте романа!) в безопасное место. Довольно любопытна визуализация образа дороги-времени в фильме «Дежа вю» (реж. Т. Скотт), где герой едет по современному шоссе и в то же время, с помощью прибора, охотится за преступником, едущим по тому же самому шоссе, только в прошлом.
Во-вторых, река связана с природно-циклическим временем, т.е. с сезонными разливами, зависимостью от них земледелия, плодородия и пр. Это, в свою очередь, отсылает нас уже не к историческому времени, а к мифопоэтическому, одной из характеристик которого является обратимость.
Не забудем отметить и важный для нас профетический характер реки. Среди различных символических значений реки В.Н. Топоров называет «силу прорицания» и пишет, что «в древней Англии реки, в частности, почитались и за их пророческие свойства»38. Прорицание, т.е. заглядывание в будущее с помощью речного потока, - это и есть попытка сопряжения двух отстоящих друг от друга эпох.
Таким образом, мы видим, что в образе Времени-реки есть отголоски противопоставления «сакральное - профанное», присущее мифопоэтическому и историческому времени.
Мифопоэтическое время связано также со временем эксперимента. Упоминание о времени-реке появляется всегда там, где герою объясняют условия эксперимента по перемещению во времени.
На связь исторического и мифопоэтического времени указывает и тот факт, что прошлая эпоха изображается изнутри, с внутренней точки зрения героя. Так же и в мифе: «...мир мифа... строится в т. и. «обратной перспективе», т.е. его события воспринимаются изнутри»39.
Подводя итог, мы можем сказать, что историческое время в фантастическом авантюрно-историческом времени не выступает в чистом виде; это сложная форма времени, образованная сращением целого ряда других художественных форм времени.
В тесной связи с художественным временем следует рассматривать художественное пространство, т.к. эти две формы образуют хронотоп именно в бахтинском понимании, как «существенную взаимосвязь временных и пространственных отношений, художественно освоенных в литературе», «слияние пространственных и временных примет в осмысленном и конкретном целом». Хронотоп исторического романа полностью характеризуется так, как писал о нем Бахтин: «Время здесь сгущается, уплотняется, становится художественно зримым; пространство же интенсифицируется, втягивается в движение времени, сюжета, истории. Приметы времени раскрываются в пространстве, и пространство осмысливается и измеряется временем»40.
Поэтому в фантастическом авантюрно-историческом романе очень важны те пространственно-архитектурные сооружения, которые существуют в обе изображенные исторические эпохи: Эмпайр Билдинг, Дакота в Нью-Йорке («Меж двух времен»), отель «Дель Коронадо» в Сан-Франциско («Где-то во времени»), здание чебуречной на Покровке в Москве, бывшее ранее кондитерской «Шик де Пари» (Б. Акунин «Детская книга») и т.п.
Их изображение важно не только для того, чтобы создать образ исторического времени и показать связь времен. Такие здания и такие пространственные части обладают свойством быть границей между эпохами. Поэтому основное место действия в фантастическом историческом романе, как правило, - это одно из таких хронотопических сооружений, где «пространство... втягивается... в движение истории».
Субъектно-речевая структура и «неготовая» история в фантастическом авантюрно-историческом романе
Повествование всегда ведется с точки зрения героя, а иногда и им самим, например, в форме рукописи.
Здесь мы наблюдаем традиционные для классического исторического романа композиционно-речевые формы: исторические справки и комментарии, которые даются, как правило, в форме страниц учебников, фрагментов лекций и т.п.
На субъектно-речевую структуру фантастического авантюрно-исторического романа влияет также экспериментальность такого типа произведений. Проведение эксперимента, его сущности и условий в романах этого жанра должно быть объяснено, поэтому с неизбежностью в структуру композиционно-речевых форм вводятся фрагменты «научного дискурса».
Важная композиционно-речевая форма в фантастическом авантюрноисторическом романе - дискуссии как испытание идеи в слове; в сочетании с авантюрным испытанием «человека в человеке», о которых шла речь выше.
Но, пожалуй, самое важное в субъектно-речевой структуре фантастического авантюрно-исторического романа - это специфика кругозора героя. Под кругозором в данном случае будем понимать тот предметный, окружающий героя мир, который дан изнутри сознания героя как «пред- мет... жизненной направленности»41.
Он - двойной: он охватывает не только настоящее героя, но и мир исторического прошлого, чужую эпоху, те. приобретает больший объем, чем у героя классического авантюрно-исторического романа.
Кроме того, что герой обладает историческим знанием о прошедшей эпохе, получая его в самых различных формах (что специально изображено), он еще имеет личное отношение к той эпохе, куда собирается отправиться (о чем мы уже говорили выше).
Но есть еще одна особенность: чужая эпоха входит в кругозор героя не сразу, а минуя определенные этапы. При перемещении в чужой для него период времени герой как бы по инерции продолжает воспринимать окружающее в качестве иллюстрации к своему знанию, как фон, картинку или фотографию. И потому встреченные им живые люди вносят резкий диссонанс в его сознание; герой воспринимает их амбивалентно - одновременно как живых и как уже умерших. Дойль Брендан во «Вратах Анубиса»: «Дойль завороженно уставился вослед, думая с благоговейным трепетом, что веселая пара в повозке, мельком увиденная им сквозь придорожные кусты ивняка, была мертва уже за сто лет до его рождения»42.
Но чем дальше, тем более обживается герой фантастического авантюрно-исторического романа в прошлой эпохе, включается в ее живую ткань, инкорпорируется. Этот процесс изображается с помощью комплекса устойчивых мотивов, о которых мы уже говорили: мотивы крови, еды, переодевания, темы частной жизни и т.п. Таким образом, можно сказать, что расширение кругозора героя (его удвоение) проходит этапы от отвлеченного знания об эпохе к живому ее восприятию. А это уже не только увеличение объема, но и качественное изменение кругозора.
Одна из функций двойного кругозора - «оживление» эпохи - явление, которого мы уже коснулись ранее и отметили, что эпоха «оживает» не только для читателя, но в первую очередь - для героя. Парадоксальное ощущение героем истории как «живой», текущей современности создает совершенно новый предмет изображения - неготовую историю, какой не может быть в классическом авантюрно-историческом романе.
Такое несовпадение, нетождественность истории самой себе диктует разные способы разрешения противоречия: от вмешательства в исторический процесс и «переписывания» исторического события до появления альтернативных миров, где история пошла по другому пути.
Граница между миром автора и читателя и миром героя в фантастическом авантюрно-историческом романе
Эксперимент как «исследовательско-преобразовательная деятельность»43 ставит читателя в позицию наблюдателя, экспериментатора и тем самым четко разграничивает два хронотопа: мир читателя и мир героя. Характер этих миров и граница между ними имеют различную природу и предполагают вполне рациональную («научную») оценку происходящих событий. Сама постановка проблемы - перемещение во времени, вмешательство в исторический процесс и мера этого вмешательства - носит не просто философский, но глобально-философский характер, т.к. касается всего человечества в целом. Каждый конкретный человек принадлежит истории, и поэтому ее изменение имеет следствием изменение жизни любого человека.
В то же время, авантюрный сюжет «включает» читателя во внутренний мир произведения, заставляя сопереживать герою и другим персонажам. Такое соотношение приватного и глобального говорит об особом статусе фантастической литературы XX в. и в частности - фантастического авантюрно-исторического романа. Кроме того, здесь очевидно влияние философской повести.
При этом перемещение во времени должно восприниматься читателем как событие, на самом деле происходившее с героем. Это не сон и не галлюцинация, не плод больной фантазии - это реальный научный эксперимент и реальное событие. Исключение, пожалуй, составляет лишь один роман - «Где-то во времени» Р. Матесона, в котором автор пытается играть разными формами фантастики44.
Статус достоверного события придает некоторым романам основная повествовательная форма - рукопись героя. Эту же функцию выполняют реальные исторические документы, включенные в роман. В «Меж двух времен», например, это фотографии и рисунки (как бы принадлежащие герою) различных реально существующих зданий - в разных эпохах.
Эта «достоверность», а также отсутствие иносказательности и сатирического фокуса изображения (при том, что романы вполне могут содержать критику современной автору действительности, в особенности - господствующих в ней социальных и политических идей) - существенная черта не только рассматриваемого типа романов, но и всей авантюрнофилософской фантастики в целом.
В качестве итога выразим надежду, что описанная инвариантная структура фантастического авантюрно-исторического романа даст возможность более строго подойти к определению жанров авантюрно-философских произведений XX в., увидеть жанровый смысл произведений и его вариаций в русле «собственной изменчивости жанра» (М.М. Бахтин).
-
1 Тамарченко Н.Д. Фантастика авантюрно-философская // Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий. М., 2008. С. 277-278.
-
2 Тамарченко Н.Д. Русская повесть Серебряного века (проблемы поэтики сюжета и жанра). М., 2007. С. 6.
-
3 Книжный ряд - жанры // Мир фантастики. URL: http://www.mirf.ru/articles . php?id=20 (дата обращения 30.03.2015).
-
4 Петухова Е., Черный И. Современный русский историко-фантастический роман. М., 2003.
-
5 Лобин А.М. Повествовательное пространство и магистральный сюжет современного историко-фантастического романа. Ульяновск, 2008.
-
6 Козьмина Е.Ю. Жанровые традиции фантастического исторического романа в авантюрно-философской фантастике XX века // Folia Litteraria Rossica: Acta Universitatis Lodziensis. Issue 5. Lodz, 2012. P. 120-129.
-
1 Артемова С.Ю., Миловидов В.А. Внутренняя мера жанра// Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий. М., 2008. С. 40-41.
-
8 Бахтин М.М. Формальный метод в литературоведении // Бахтин М.М. Фрейдизм. Формальный метод в литературоведении. Марксизм и философия языка. Статьи. М., 2000. С. 185-348; Бахтин М.М. Эпос и роман // Бахтин М.М. Вопро-
сы литературы и эстетики. М., 1975. С. 447-483; Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе: очерки по исторической поэтике // Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 234-407; Бахтин М.М. Проблема речевых жанров // Бахтин М.М. Собрание сочинений. Т. 5. М., 1997. С. 159-206.
-
9 Стругацкие А. и Б. Попытка к бегству. URL: http://lib.ru/STRUGACKIE/ popytkabeg.txt (дата обращения 27.03.2015).
-
10 Тамарченко Н.Д. Авантюрная литература // Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий. М., 2008. С. 8-9.
-
11 Бахтин М.М. Проблемы творчества Достоевского // Бахтин М.М. Собрание сочинений. Т. 2. М., 2000. С. 76.
-
12 Финней Дж. Меж двух времен. М., 1972. С. 249.
-
13 Булычев К. Подземелье ведьм // Юность. 1987. № 5. С. 36.
-
14 Матесон Р. Где-то во времени. URL: http://aldebaran.ru/author/mateson_ richard/knigagdetovovremeni? (дата обращения 27.03.2015).
-
15 Иванов А. Географ глобус пропил. М.; СПб., 2008. С. 386.
-
16 Леви-Брюль. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М., 1937. С. 214.
-
17 Тамарченко Н.Д., Стрельцова Л.Е. Путешествие в другую эпоху. М., 1998. С. 79.
-
18 Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. М., 2005. С. 276.
-
19 Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. М., 1997. С. 56.
-
20 Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. М., 1997. С. 64.
-
21 Топоров В.Н. Еда // Мифы народов мира: энциклопедия: в 2 т. Т. 1. М., 1991. С. 428.
-
22 Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. М., 2005. С. 276-277.
-
23 Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности // Бахтин М.М. Собрание сочинений. Т. 1. М., 2003. С. 69.
-
24 Гаррисон Г. Время для мятежника. URL: http://readr.ru/garri-garrison-vremya-dlya-myateghnika.html (дата обращения: 08.05.2014).
-
25 Стругацкий А., Стругацкий Б. Трудно быть богом // Стругацкий А., Стругацкий Б. Трудно быть богом; Понедельник начинается в субботу; Второе нашествие марсиан. М., 1997. С. 75.
-
26 Крайтон М. Стрела времени. URL: http://www.modernlib.ru/books/krayton_ maykl/strela_vremeni/ (дата обращения: 08.05.2014).
-
27 Бахтин М.М. К «Роману воспитания» // Бахтин М.М. Собрание сочинений. Т. 3. М., 2012. С. 270.
-
28 Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979. С. 10.
-
29 Тамарченко Н.Д., Тюпа В.И., Бройтман С.Н. Теория литературы: в 2 т. Т. 1. М„ 2004. С. 253.
-
30 Тамарченко Н.Д., Тюпа В.И., Бройтман С.Н. Теория литературы: в 2 т. Т. 1. М„ 2004. С. 255.
-
31 Тамарченко Н.Д. Фантастика авантюрно-философская // Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий. М., 2008. С. 278.
-
32 Нуделъман Р.П. Фантастика // Краткая литературная энциклопедия: в 9 т. Т. 7. М., 1972. Стлб. 890.
-
33 Томас Т. Целитель // Лалангамена. М., 1985. URL: http://www.e-reading-lib.org/chapter.php/92109/18/Lalangamena_%28sbornik%29.html (дата обращения: 08.05.2014).
-
34 Тамарченко Н.Д. Историческое время // Поэтика: словарь актуальных тер-

минов и понятий. М., 2008. С. 88-89.
-
35 Тамарченко Н.Д. Авантюрное время // Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий. М., 2008. С. 9-10.
-
36 Тамарченко Н.Д. Мифопоэтическое время // Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий. М., 2008. С. 125.
-
37 Фрагменты ранних греческих философов. Ч. I. М., 1989. С. 177.
-
38 Топоров В.И Река // Мифы народов мира: энциклопедия: в 2 т. Т. 2. М., 1992. С. 376.
-
39 Тамарченко Н.Д. Мифопоэтическое время // Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий. М., 2008. С. 125.
-
40 Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе: очерки по исторической поэтике // Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1979. С. 235, 234.
-
41 Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности // Бахтин М.М. Собрание сочинений. Т. 1. М., 2003. С. 173.
-
42 Пауэрс Т. Врата Анубиса. URL: http://royallib.com/book/pauers_tim/vrata_ anubisa.html (дата обращения: 08.05.2014).
-
43 Абушенко В.Л. Эксперимент // Новейший философский словарь. Минск, 1998. С. 838.
-
44 Козьмина Е.Ю. Готическая традиция в романе Р. Матесона «Где-то во времени»: пограничный образ мира // Новый филологический вестник. 2014. № 3 (30). С. 75-86.
Список литературы Инвариант фантастического авантюрно-исторического романа
- Тамарченко Н.Д. Фантастика авантюрно-философская//Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий. М., 2008. С. 277-278
- Тамарченко Н.Д. Русская повесть Серебряного века (проблемы поэтики сюжета и жанра). М., 2007. С. 6
- Книжный ряд -жанры//Мир фантастики. URL: http://www.mirf.ru/articles.php?id=20 (дата обращения 30.03.2015)
- Петухова Е., Черный И. Современный русский историко-фантастический роман. М., 2003
- Лобин А.М. Повествовательное пространство и магистральный сюжет современного историко-фантастического романа. Ульяновск, 2008
- Козьмина Е.Ю. Жанровые традиции фантастического исторического романа в авантюрно-философской фантастике ХХ века//Folia Litteraria Rossica: Acta Universitatis Lodziensis. Issue 5. Łódź, 2012. P. 120-129
- Артемова С.Ю., Миловидов В.А. Внутренняя мера жанра//Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий. М., 2008. С. 40-41
- Бахтин М.М. Формальный метод в литературоведении//Бахтин М.М. Фрейдизм. Формальный метод в литературоведении. Марксизм и философия языка. Статьи. М., 2000. С. 185-348
- Бахтин М.М. Эпос и роман//Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 447-483
- Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе: очерки по исторической поэтике//Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 234-407
- Бахтин М.М. Проблема речевых жанров//Бахтин М.М. Собрание сочинений. Т. 5. М., 1997. С. 159-206
- Стругацкие А. и Б. Попытка к бегству. URL: http://lib.ru/STRUGACKIE/popytkabeg.txt (дата обращения 27.03.2015)
- Тамарченко Н.Д. Авантюрная литература//Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий. М., 2008. С. 8-9
- Бахтин М.М. Проблемы творчества Достоевского//Бахтин М.М. Собрание сочинений. Т. 2. М., 2000. С. 76
- Финней Дж. Меж двух времен. М., 1972. С. 249
- Булычев К. Подземелье ведьм//Юность. 1987. № 5. С. 36
- Матесон Р. Где-то во времени. URL: http://aldebaran.ru/author/mateson_richard/kniga_gde_to_vo_vremeni/(дата обращения 27.03.2015)
- Иванов А. Географ глобус пропил. М.; СПб., 2008. С. 386
- Леви-Брюль. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М., 1937. С. 214
- Тамарченко Н.Д., Стрельцова Л.Е. Путешествие в другую эпоху. М., 1998. С. 79
- Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. М., 2005. С. 276
- Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. М., 1997. С. 56
- Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. М., 1997. С. 64
- Топоров В.Н. Еда//Мифы народов мира: энциклопедия: в 2 т. Т. 1. М., 1991. С. 428
- Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. М., 2005. С. 276-277
- Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности//Бахтин М.М. Собрание сочинений. Т. 1. М., 2003. С. 69
- Гаррисон Г. Время для мятежника. URL: http://readr.ru/garri-garrison-vremya-dlya-myateghnika.html (дата обращения: 08.05.2014)
- Стругацкий А., Стругацкий Б. Трудно быть богом//Стругацкий А., Стругацкий Б. Трудно быть богом; Понедельник начинается в субботу; Второе нашествие марсиан. М., 1997. С. 75
- Крайтон М. Стрела времени. URL: http://www.modernlib.ru/books/krayton_maykl/strela_vremeni/(дата обращения: 08.05.2014)
- Бахтин М.М. К «Роману воспитания»//Бахтин М.М. Собрание сочинений. Т. 3. М., 2012. С. 270
- Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979. С. 10
- Тамарченко Н.Д., Тюпа В.И., Бройтман С.Н. Теория литературы: в 2 т. Т. 1. М., 2004. С. 253
- Тамарченко Н.Д., Тюпа В.И., Бройтман С.Н. Теория литературы: в 2 т. Т. 1. М., 2004. С. 255
- Тамарченко Н.Д. Фантастика авантюрно-философская//Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий. М., 2008. С. 278
- Нудельман Р.И. Фантастика//Краткая литературная энциклопедия: в 9 т. Т. 7. М., 1972. Стлб. 890
- Томас Т. Целитель//Лалангамена. М., 1985. URL: http://www.e-reading-lib.org/chapter.php/92109/18/Lalangamena_%28sbornik%29.html (дата обращения: 08.05.2014)
- Тамарченко Н.Д. Историческое время//Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий. М., 2008. С. 88-89
- Тамарченко Н.Д. Авантюрное время//Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий. М., 2008. С. 9-10
- Тамарченко Н.Д. Мифопоэтическое время//Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий. М., 2008. С. 125
- Фрагменты ранних греческих философов. Ч. I. М., 1989. С. 177
- Топоров В.Н. Река//Мифы народов мира: энциклопедия: в 2 т. Т. 2. М., 1992. С. 376
- Тамарченко Н.Д. Мифопоэтическое время//Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий. М., 2008. С. 125
- Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе: очерки по исторической поэтике//Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1979. С. 235, 234
- Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности//Бахтин М.М. Собрание сочинений. Т. 1. М., 2003. С. 173
- Пауэрс Т. Врата Анубиса. URL: http://royallib.com/book/pauers_tim/vrata_anubisa.html (дата обращения: 08.05.2014)
- Абушенко В.Л. Эксперимент//Новейший философский словарь. Минск, 1998. С. 838
- Козьмина Е.Ю. Готическая традиция в романе Р. Матесона «Где-то во времени»: пограничный образ мира//Новый филологический вестник. 2014. № 3 (30). С. 75-86