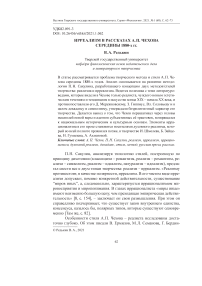Ирреализм в рассказах А.П. Чехова середины 1880-х гг.
Автор: Редькин Валерий Александрович
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 1, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается проблема творческого метода и стиля А.П. Чехова середины 1880-х годов. Анализ основывается на развитии методологии П.Н. Сакулина, разработавшего концепцию двух методов/стилей творчества: реализма и ирреализма. Ведется полемика с теми литературоведами, которые видели в Чехове только реалиста, чуждого новым эстетическим течениям и тенденциям в искусстве конца ХIХ - начала ХХ века, и противопоставляли его Д. Мережковскому, З. Гиппиус, Вл. Соловьеву и в целом декадансу и символизму, утверждали безрелигиозный характер его творчества. Делается вывод о том, что Чехов перешагивал через головы искателей новой веры и адептов субъективных её трактовок, возвращался к национальным историческим и культурным основам. Элементы иррационализма в его прозе становятся носителями духовного реализма, который во всей полноте проявился позже, в творчестве И. Шмелева, Б. Зайцева, Н. Гумилева, А. Ахматовой.
А.п. чехов, п.н. сакулин, реализм, ирреализм, иррацио нализм, духовный реализм, декаданс, стиль, метод, русская проза, рассказ
Короткий адрес: https://sciup.org/146282252
IDR: 146282252 | УДК: 82.091-3 | DOI: 10.26456/vtfilol/2021.1.062
Текст научной статьи Ирреализм в рассказах А.П. Чехова середины 1880-х гг.
П. Н. Сакулин, анализируя типологию стилей, построенную по принципу дихотомии (классицизм – романтизм, реализм – романтизм, реализм – символизм, реализм – идеализм, натурализм – идеализм), предлагал свести все к двум типам творчества: реализм – ирреализм. «Реализму противостоит, в качестве полярности, ирреализм. В его чистом виде ирре-ализм допускает, помимо конкретной действительности, существование “миров иных”, а, следовательно, характеризуется иррационализмом мировосприятия и миропонимания. В глазах иррационалиста «миры иные» имеют неизменно большую цену, чем преходящая эмпирическая действительность» [8, с. 154], – заключает он свои размышления. При этом он справедливо подчеркивает, что существует закон внутреннего единства, консенсуса, казалось бы, полярных типов, которые существуют одновременно [Там же, с. 82].
Особенности стиля А. П. Чехова – реалиста исследованы доста точно глубоко . Об этом писали В. Ермилов, М. Л. Семанова, Г. Бердни-
ков, В. В. Голубков, З. Паперный, В. Лакшин, М. П. Громов, В. Б. Катаев, А. П. Чудаков, А. Скафтымов, Г. А. Бялый и мн. др. При этом отмечалось, что он «теоретик и практик реализма», что «материалистическое мировоззрение… обеспечило реалистический характер его эстетики» [Там же, с. 167]. Естественно, отдавалась значительная дань социологическому аспекту («Взаимное непонимание героев… объясняется социальным неравенством» [7, с. 179]; «Чехов отразил в своем творчестве глубокую неудовлетворенность существующим экономическим и политическим строем» [2, с. 94]) вплоть до характерных сетований на то, что до М. Горького в изображении революционной действительности он не дотянул: «Не сумел преодолеть ограниченность критического реализма и прийти к реализму нового типа, зачинателем которого стал Горький» [Там же, с. 95]. Что касается его ранних рассказов, то неизменно отмечался их «развлекательный характер». Сложилось даже расхожее мнение, что в юмористических рассказах 1886 года «Визитные карточки», «Счастливчик», «Роман с контрабасом» и др. «искусственный юмор лишал забавные истории жизненной достоверности» [3, с. 136].
С точки зрения советских критиков 1950–1970-х годов, А. П. Чехов «упорно и страстно выступал против вредоносной сущности декаданса» [4, с. 336]. При этом утверждалось, что декаденты «довели до чудовищного проявления буржуазный индивидуализм и субъективизм, объявив, что ценен только мир, созданный воображением художника». Чехов как реалист, по словам М. Е. Елизаровой, «требовал от художника знания и отображения объективного мира» [Там же]. Чеховедение, особенно в последние десятилетия, пытается подчеркнуть особый характер чеховского реализма, но нам кажется, не учитывая проникновения в стиль чеховских рассказов середины 80-х годов черт ирреализма, трудно постигнуть их подлинную художественную глубину.
На рубеже ХIХ–ХХ веков произошла «базисная трансформация» [9, с. 97] художественной системы русской литературы, которая, воплощая новый тип мировосприятия, привела к авангардистским течениям серебряного века: символизму, футуризму, различным формам примитивизма, импрессионизма, экспрессионизма и т.д. Новые принципы искусства, которые утверждал в своей декларации «О причинах упадка и новых течениях современной русской литературы» Д. Мережковский, охватили как поэзию, так и прозу, как живопись, так и музыку. Изнутри литературного процесса эта «базисная трансформация» осознается далеко не сразу. Тем более что существуют пограничные явления, которые вполне можно было рассматривать как развитие системы предыдущего периода, и только отдаленность во времени могла показать, что фактически нарождалось принципиально новое явление. Именно таким явлением, по большому счету, и было творчество А. П. Чехова, которого традиционно причисляют к представителям критического реализма. Чехов застал только первое десятилетие возникновения русской «новой» литературы, русского модернизма, но фактически он был его предтечей, как предтечей поэтики русского символизма был А. Фет или, скажем, К. К. Случевский. Нам представляется, что в творчестве Чехова постепенно формировались черты нового искусства, которые вполне системно проявились уже в 1886 году. Суть нового искусства заключалась в «искомом выражении искомого понятия об искомом мире» [Там же, с. 99]. Игорь Смирнов, анализируя принципы творчества первых декадентов в России, подчеркивает, что они социофизическую действительность приравнивают к нулю, так, что подчас исчезает прошлое и будущее. Отсюда мотивы забвения, опьянения, сна, смерти. Утверждается «небытие бытия» Время переводится в пространственный план, когда возникают образы пропасти прошедшего и пропасти будущего, между которыми пролегает узкая тропинка настоящего. Человек движется по замкнутому кругу, что демонстрирует бессмысленность его существования. Под сомнение ставятся средства коммуникации, когда встает проблема всеобщего взаимного непонимания.
В новом искусстве преобладала деструктивность, оно показывало дисгармоничность мира, абсурдность существования человека, подчас приобретая эпатажный характер. Смысл и юмористических, и трагикомических, и лиро-драматических произведений А. П. Чехова состоит, что общепризнанно, – в яркой антимещанской направленности. Он не принимает обывателя, его косный быт, его лицемерие и ханжество. Но при этом понятие обывателя расширяется до пределов всех слоев общества, независимо от классовой принадлежности. Ни сочувствия маленькому человеку, ни романтизации лишнего человека здесь нет и быть не может. Сам пафос и приемы письма: горький юмор, сатира, ирония, гротеск – носят разрушительный в отношении сложившихся социокультурных ценностей характер. «За комическим ощущается глубокая трагедия» [2, с. 96].
Следует подчеркнуть, что неприятие новых тенденций в литературе со стороны Чехова не носило такой уж непримиримый характер. Вероятно, он не принимал внешнюю сторону, головное, рациональное начало, конструирование произведений по заранее придуманным рецептам, что претит любому типу искусства, как реализму, так и романтизму, и модернизму. В. Гейдеко справедливо замечает, что устные высказывания А. Чехова и его письма «не содержат, как правило, полемики с основой, сутью философских учений, питающих декадентство», со взглядами Шопенгауэра, Ницше, Вл. Соловьева [1, с. 73]. Не случайны участие А. Чехова в декадентском альманахе «Северные цветы», его явные симпатии к поэзии Бальмонта, увлечение «новой» западноевропейской драматургией. Не случайно А. Белый и Б. Зайцев в свое время усматривали в творчестве Чехова религиозный смысл. Они утверждали, что ему «тесны» рамки реализма. В полной мере, по мнению ряда ученых, негативное отноше- ние Чехова к новым течениям в литературе выявилось в художественном творчестве. Но вряд ли это отношение проявилось однозначно.
Рассказы А.П. Чехова 1880–1885 годов обычно относят к раннему творчеству 1886 год кризисный для Чехова, когда он стал тяготиться сотрудничеством в «Осколках», когда «мелочь опротивела» и захотелось «работать покрупнее или вовсе не работать», как он писал своему брату. С нашей точки зрения, творчество этого времени особенно показательно. С одной стороны, Чехов выступает как уже сложившийся мастер, с другой – тенденции, которые проявляются довольно явно, в дальнейшем могли частично быть преодолены, частично ушли вглубь текста.
По большому счету, в рассказах 1886 года А. П. Чехов подмечает, выявляет, показывает абсурдность обычаев, традиций, социальных отношений, самой жизни. В рассказе «Новогодние великомученики» – это обязательные для чиновников праздничные поздравления до одури, до изнеможения, до потери сознания. Абсурдность чисто формальной переписки рисуется в рассказе «Много бумаги». Абсурдность формальной благодарности – в рассказе «Произведение искусства». Абсурдность ритуала похорон – в рассказе «Оратор». Абсурдна ситуация, когда богатого дядю, от которого ждали помощи, отправляют за свой счет отдыхать за границу («Тайный советник»). Абсурд лежит в основе сюжетов «Романа с контрабасом», «Хористки», «Нахлебников», «Первого любовника», где артист оболгал знакомую одного из присутствующих. Бессмысленно посылать письмо «на деревню дедушке» («Ванька»). Примеры можно множить. С идеей отчуждения человека от мира, видимо, и связано появление «необязательных деталей», о которых пишет А. П. Чудаков в книге «Поэтика Чехова». Писатель обращает внимание и на существующие в народной жизни ни с чем не сообразные характеры, вроде трудолюбивого, но до крайности безответного церковного сторожа Матвея из рассказа «Художество», которому прикажут «стоять на реке день, месяц, год, он и будет стоять» и талантливого, но опять-таки до крайности ленивого Сережки. Человек по своей природе двойственен, сознание и подсознание находятся в явном противоречии («Недобрая ночь»). Бессмысленность, нерациональность в области социальной жизни становится темой рассказа «Мой разговор с почтмейстером». Форма в обыденной жизни подчас подменяет суть. Чехов здесь выходит на социальную критику и национальной жизни и национального характера, когда ведущим принципом поведения становится формула: «Не нашего ума это дело!» Иррациональность любви подчеркнута в рассказе «Любовь».
Мотив опьянения у Чехова становится реалистическим объяснением ирреальной картины окружающего мира. «Был я, признаться, выпивши» [10, с. 14] начинает своё повествование герой рассказа «Ночь на кладбище», «Я хорошо заложил за галстук и был пьян, как сорок тысяч сапожников…» («То была она!»). Словно в тумане или во сне рисуется произошедшее в результате пьянства герою рассказа «Беда», пьян герой рассказа «Жилец» и т.д. «Вино делает человека добрее и мирит человека с пороком…», – размышляет герой рассказа «Тина». С этим же связан мотив безумия («Весной»). Жизнь оказывается «пустым бесцветным прозябанием… миражем…» «В конце концов, закопают тебя, болвана, в могилу…», – рассуждает герой рассказа «Ночь на кладбище».
В рассказах А. Чехова постоянно варьируется тема смерти . Мало сказать, что «у Чехова напоминание о смерти является проверкой истинности жизни» [1, с. 255]. Но из-под шутовской маски она выглядит довольно-таки зловеще. «По-моему при встрече Нового года нужно не радоваться, а страдать, плакать, покушаться на самоубийство. Не надо забывать, что чем новее год, тем ближе к смерти…» [10, с. 14]. Мысль о смерти как бы находится постоянно в подсознании человека, и в минуты напряжения с языка героя слетают фразы, подобные этой: «Что ты едешь, точно мертвого жениться везешь?» [Там же, с. 22]. О кладбище вспоминают маленькие героя рассказа «Детвора». Весь рассказ «Тоска» строится на мотиве смерти сына извозчика.
Свойственное в будущем символистам изображение иллюзорности радости плотской жизни особенно ярко проявилось в рассказе «О бренности», когда смерть подстерегает героя в момент предвкушения радости трапезы. Тщательно подготовленные блины с семгой и самыми аппетитными приправами так и остаются не съеденными. При этом автор добивается двойного эффекта отрицания, доводя до абсурда и саму постановку проблемы. Мечта, фантазия о возможности получения места службы совершенно не соответствует действительности в рассказе «Персона». Конечно, можно сказать, как это делает большинство советских литературоведов, что Чехов утверждает реальную жизнь, противопоставляя её мечтательности, фантазии, иллюзии. Но ведь он как раз и не принимает пошлость быта, безнравственность, разъеденную вековой коррозией структуру социальных отношений. А все это на поверку как раз и оказывается реальностью жизни.
В рассказе «Ночь на кладбище», как и во многих других рассказах Чехова этого периода, реальность замещается иллюзорной, кажущейся картиной. Где действительность, а где призрачная, эфемерная её видимость невозможно разобрать. На несоответствии реальности и видимости героем всех событий дня строится рассказ «Первый дебют», который заканчивается характерной фразой: «Страдания истекшего дня оказались пуфом» [Там же, с. 27]. Видимость подменяет реальность в рассказе «Ночь перед судом», когда герой представляется на почтовой станции доктором, а на суде выясняется, кто он на самом деле. В рассказе «Переполох» обыскивают гувернантку, предполагая, что она украла брошь, а на само деле взял её хозяин, который сам живет в обстановке фальши и играет неблаговидную роль приживалы. Неразличимость реальности и видимости характерна для рассказов «Иван Матвеевич», «Ведьма» и т.д.
Чехов постоянно подчеркивает условность происходящего, игровое начало жизни, что особенно характерно для эстетики авангарда. Таков глубинный смысл игры детей в карты на деньги в рассказе «Детвора». Герои Чехова часто живут в воображаемом мире, играют взятую на себя роль. «Инженер статский советник Бахромкин сидел у себя за письменным столом и от нечего делать настраивал себя на грустный лад», – начинается рассказ «Открытие». Здесь как бы рисуются две возможные жизни персонажа. Он открыл в себе талант художника только под старость и воображает бедную и неустроенную жизнь художника. А чековая книжка и ордена Анны и Станислава символизируют настоящую его жизнь, но можно ли назвать её настоящей? Она, о чем говорится в начале произведения, по сути, иллюзорна. Всю жизнь Бахромкин играл избранную для себя роль.
Не случайно героями ряда произведений Чехова становятся актеры, чья профессия и вся жизнь – это игра . Это, например, «Юбилей», «Калхас», «Актерская гибель», где подчеркивается лживость театральной жизни: один из персонажей так расчувствовался, что хотел упасть в обморок, но, спохватившись, «что он не у себя дома и не в театре, отложил обморок до более удобного случая» [Там же, с. 65]. В рассказе «Панихида» «актерка» наигранно восхищается малой родиной: «Что за овраги и болота! Боже, как хороша моя родина», а её отец закоснел в представлении, что она блудница. Мотив игры возникает в конце рассказа «Волк»: «Была игра… Будет, о чем вспомнить в старости». Позером в домашней обстановке оказывается герой рассказа «Тссс!..» Все зависит от роли исполняемой человеком в данный момент жизни. Так проститутка Ванда зашла к знакомому клиенту, чтоб взять денег, а он, находясь в это время в роли зубного врача, вырвал у неё зуб (« «Знакомый мужчина»). Даже когда речь идет о самоубийстве, оказывается, что герой рисуется. Позже, зажив обычной жизнью, он временами, как это подчеркивает автор, «входит в свою обычную роль ученого пустослова» («Рассказ без конца»).
Ирреальной рисуется картина всего происходящего в рассказе «Тоска». Образы Ионы и его лошаденки, белые от снега и неподвижные, словно виртуальны. Не случайно извозчик сравнивается с привидением, а лошадь «похожа на копеечную пряничную лошадку». Весь рассказ «Тоска» строится на несоответствии видимого физического мира миру истинному, духовному. Для Ионы реальность – это смерть сына, и с этой точки зрения седоки, их шутки и ёрничество воспринимаются отстраненно. Возникает ощущение эфемерности окружающего мира. Происходит отчуждение человека от человека, от природы и самого Бога. Никто не хочет выслушать Иону о его горе. Развивается пронзительный мотив одиночества, а отсюда тоски. «…Толпы бегут, не замечая ни его, ни тоски…
Тоска громадная не знающая границ. Лопни грудь Ионы и вылейся из него тоска, так она бы, кажется, весь свет залила, но, тем не менее, её не видно..» [Там же, с. 41]. Одиночество и тоску испытывает герой рассказа «Весной». То же чувство возникает при чтении рассказа «Мечты». Суть жизни, по Чехову, не видна, скрыта от глаз.
В этом смысле рассказ А. П. Чехова «Шуточка», мне кажется, выражает кредо писателя. Здесь утверждается принципиальная неразличимость вымысла и реальности. Слова «Я люблю вас, Наденька!», сливаясь с воем ветра, становятся для героини своеобразным наркотиком: «Из какого сосуда ни пить – все равно, лишь бы быть пьяным». Неважно, что герой не любит Наденьку, её преображают слова о любви, принесенные ветром: «Боже мой, что делается с Наденькой. Она вскрикивает, улыбается во все лицо и протягивает навстречу ветру руки, радостная, счастливая, такая красивая» [Там же, с. 127]. Почудившееся признание становятся более значимым и ценным, чем сама будничная жизнь. Да и сама реальность, истина становятся в этом случае относительными.
Даже любовь оказывается иллюзорной и относительной. В рассказе «Сильные ощущения» адвокат легко переубеждает страстно влюблённого героя и он готов отказаться от брака, а потом возвращает его к прежнему состоянию. Подчеркивается и относительность счастья, когда радостный молодожен сел в поезд идущий в противоположном направлении («Счастливчик») Видимость разительно не соответствует истинным причинам поведения героя, его неправого решения («Думы»).
Реальный факт в жизни, подчас непознаваем . На этом строится у Чехова ряд сюжетов. Неизвестно, то ли заразился герой бешенством в рассказе «Волк», то ли нет. То ли действительно больны учителя в рассказе «В Париж», то ли это выдумка обывателей. И опять абсурд. Вопреки разуму, герои не поехали лечиться. Париж для них чуждый мир.
Потрясающее несоответствие видимости и реальной жизни показано в рассказе «Кошмар», где душа героя наполняется «чувством гнетущего стыда перед самим собой и перед невидимой правдой». Но эта невидимая правда так и остается за пределами реальной жизни, ибо герой ограничился только намерением помочь бедному священнику. Уходит из реальности, в общем-то, благополучной жизни с мужем, Агафья в одноименном рассказе из-за безрассудной любви, вернее, иррациональной тяги к Савке, местному чудику.
Каждый из героев живет в своем иллюзорном мире, так, что они друг друга совершенно не понимают, как, например студент и его содержанка в рассказе «Анюта». В рассказе «Гриша» диаметрально расходятся реалии матери и ребенка. Герои часто находятся как будто бы в разных психофизических измерениях: «Лихарев кутал её и весело болтал, но каждое его слово ложилось на душу тяжестью. Не весело слушать, когда балагурят несчастные или умирающие» [Там же, с. 604]. Тема отчуждения брата от сестры, сына от матери лежит в основе рассказов «Хорошие люди» и «На мельнице».
При всей отстраненности, отмежевании автора-повествователя от его героя в рассказах Чехова этого времени подчас звучит внутренний протест против существующего мироустройства. «Никакая злая воля не в состоянии так напакостить человеку, как природа», – размышляет герой рассказа «Открытие» о быстром старении человека.
Соответствуют идее дисгармоничности мира пейзажные зарисовки, которые довольно часто встречаются у Чехова в рассказах 1886 года. «Погода на улице стояла подлейшая… Порол дождь… Холодный и резкий ветер выводил ужасные нотки; он выл, плакал, стонал, визжал, точно в оркестре природы дирижировала сама ведьма. Под ногами жалобно всхлипывала слякоть; фонари глядели тускло, как заплаканные вдовы» [Там же, с. 15]. «Погода была отвратительная. Она, казалось, негодовала, ненавидела и страдала вместе с Пятеркиным. В воздухе, непроглядном, как сажа, дул и посвистывал на все лады холодный влажный ветер. Шел дождь…» [Там же, с. 22]. «Погода была ужасная» [10, с.44]. «Какая-то победительная сила гонялась за кем-то по полю, бушевала в лесу и на церковной крыше, злобно стучала кулаками по окну, метала и рвала, а что-то побежденное выло и плакало…Жалобный плач слышался то за окном, то над крышей, то в печке. В нем звучал не призыв на помощь, а тоска, сознание, что уже поздно, нет спасения [Там же, с. 95]. «На дворе шумела непогода. Что-то бешеное, злобное, но глубоко несчастное с яростью зверя металось вокруг трактира и старалось ворваться вовнутрь… Рыданья, визг, сердитый рев. Во всем этом слышалась и злобствующая тоска…» [Там же, с. 590]. Разве здесь не ощущается мистическая подоплека, и разве эти описания не напоминают пейзажи декадентов? «Тишина стояла, как в могиле… Ветер отпевал кого-то, деревья гнулись с воем и плачем; какая-то чертовщина, должно быть ставня, жалобно скрипела», – передаёт свои ощущения герой рассказа «То была она!». Фоном рассказа «Актерская гибель» становится пустошь, заросшая репейником, которая видится из окна. Это «скучная и безжизненная картина» подернутая вечерними сумерками явно символична.
Это же относится и к интерьеру: «В правом углу висел темный образ, из левого мрачным дуплом глядела неуклюжая печь» [Там же, с. 24]. В таком контексте «темный образ» значит нечто больше, чем просто старая закопченная икона. Автор нагнетает чувство страха, когда рисует «мрачную, безжизненную пустоту церкви» в рассказе «Панихида».
Но даже, если писателем с подлинным мастерством рисуется прелесть и очарование природы, то все равно она дисгармонична в отношении человека, его повседневного быта. «Нехорошо, если вы больны, если чахните в канцелярии, если знаетесь с музами». Опять красота природы человеку не в радость. («Весной»).
Власть сил тьмы, зла подчеркивается нагнетанием физической темноты : «Темнота вокруг такая, что хоть глаз выколи: глядишь, глядишь и ничего не видишь, словно тебя в жестянку с ваксой посадили» [Там же, с. 15]. «Мой путь был окутан холодной, непроницаемой тьмой» [Там же].
Появляется необъяснимый мистический страх : «Душу мою постепенно наполнил неизъяснимый страх… Этот страх обратился в ужас…» [Там же]. Особенно это наглядно проявляется в рассказе «Ночь на кладбище», где герой рассказывает, как заблудился во тьме и наткнулся на могильную плиту. И хотя финал, когда герой оказывается около монументальной лавки, а вместо мертвеца около него сидит бродячий пес, приводит к пародийному эффекту, реальность психологического состояния героя и художественные средства изображения, которые позже широко использовали декаденты, налицо.
Ирреальность окружающего мира и всего происходящего подчеркивается упоминанием черт а, нечистой силы. «Сам черт не разберет, была то зима или осень», «дирижировала сама ведьма» [Там же, с. 14–15]. «Да езжай же, черт тебя возьми!… – Черта погони, так и тот замучается…» – перебрасываются репликами персонажи рассказа «Первый дебют» [Там же, с. 22]. «Глаза красные, страшные, как у нечистого» [Там же, с. 30]. В рассказе «Беседа пьяного с трезвым чертом» черт сетует, что «пути добра уже нет, не с чего совращать» [Там же, с. 59]. В рассказе «Ведьма» в представлении дьячка его жена ведьма, вызывающая катаклизмы в природе, когда тоскует её грешная плоть. Впрочем, описания автора уж очень соответствуют представлениям героя. «Сначала она была бледна, потом же вся раскраснелась. Лицо её исказилось ненавистью, дыханье задрожало, глаза заблестели дикой, свирепой злобой и, шагая как в клетке, она походила на тигрицу, которую пугают раскаленным железом» [Там же, с. 15]. Здесь явно ощутима связь телесного начала с инфернальным миром. В то же время, дьячок, ассоциируя жену с адскими силами, невольно её поэтизирует, и его тянет к ней ещё больше, как это не абсурдно для верующего человека. Во многих рассказах Чехова истины, фактически, нет. Она скрыта и от автора, и от читателя. «Петр Петрович Лысов идеалист до конца ногтей», – начинает Чехов рассказ «Отрава». Герой страстно любит Любочку. Говорит, что ему не нужно приданое. И тут же иронический комментарий: «Черту, конечно, такая идеальность не понравилась, и он не преминул вмешаться». Но шутки шутками, а из-за неполученных четырехсот рублей происходит первый скандал с женой. Маска снята, а за ней суть, переданная в эпиграфе словами из арии Мефистофеля.
По большому счету, эстетика авангардизма разрушительна в отношении сложившихся стереотипов о национальном мире. Есть подобные мотивы и у Чехова. В рассказе «Глупый француз» иностранцу представляется, что русский посетитель ресторана ест блины, чтобы кончить жизнь самоубийством. Когда выясняется, что его представления не соответству- ют реальности, звучит ироническая фраза в отношении национального русского мира: «О, страна чудес… Не только климат, но даже желудки делают у них чудеса! О, страна, чудная страна!» Разрушительная ирония подчас затрагивает и обычаи, обряды исторического христианства. Так, святой образ хотят использовать для того, чтобы «окрутить» жениха в рассказе «Неудача», а вместо иконы оказывается портрет писателя Лажечникова. Впрочем, следует подчеркнуть, что острие сатиры у Чехова всегда направлено не на суть национальной культуры, духовности, православной веры, а на форму, из которой, как это свойственно фарисейству, выхолощено содержание. Творчество Чехова – своего рода «духовный лечебник», в котором писатель «воплотил собственный нравственный идеал, связанный с христианским универсализмом и труженичеством» [6, с. 71]. Стремясь во что бы то ни стало противопоставить Чехова новым тенденциям в искусстве конца ХIХ – начала ХХ века, многие советские литературоведы противопоставляли его Д. Мережковскому, З. Гиппиус, Вл. Соловьеву и в целом декадансу и символизму, утверждая безрелигиозный характер его творчества. Мало сказать, что это не соответствует действительности. Суть в том, что Чехов перешагивал через головы искателей новой веры и адептов субъективных её трактовок, и в этом случае элементы иррационализма становятся носителями духовного реализма, который во всей полноте проявился позже, в творчестве последующих после символистов писателей: И. Шмелева, Б. Зайцева, Н. Гумилева, А. Ахматовой.
В отличие от эстетики авангардизма у Чехова остается что-то святое в реальной жизни, что не подвержено отрицанию или осмеянию. Ирония и глум отступают, когда рисуется «радость общей народной молитвы», когда передается нерукотворная красота Божьего мира, когда говорится о горемычной судьбе ребенка. Радость молитвы и истинной веры воплощены в рассказе «Святою ночью». Многие произведения Чехова посвящены «врачеванию душ» [6, с. 70]. В них представлен «христианский идеал нравственно развивающейся личности»: «Терпение и смирение, скромность материальных запросов («нищета духом»), любовь и сердечная теплота, даже терпеливое безмолвие (« молчание… молчание…») – вот черты нравственного мира» [Там же, с. 70] любимых чеховских героев.
Как что-то святое и идеальное возникает в произведениях Чехова образ Родины («Актерская гибель»), куда стремится герой перед смертью. Но в рассказе «На реке», где рисуется прекрасный Божий храм, который мигает людям солнечным светом, подчеркнуто, что приближение к нему – это только иллюзия. Сколько бы река ни приближала сплавщиков к церкви, она остается далеко. Это символ. Символичен и запрет свободно плыть по реке. Традиционно река ассоциируется с жизнью.
Таким образом, А. П. Чехов в рассказах 1886 года показывает «небытие бытия» обывателя в широком значении этого слова. Жизнь героя часто движется по замкнутому кругу. Утверждается мысль о всеобщем взаимном непонимании. Появляются элементы агностицизма. Приоритетными оказываются «иные» духовные миры. Поэтому, как считает С. Ю. Николаева, произведения Чехова «следует рассматривать и осмысливать в рамках такого типа творчества, как «духовный реализм»» [Там же, с. 71]. Но исследователь делает данный вывод на материале прежде всего зрелого творчества писателя. Проведенный в данной статье анализ свидетельствует о том, что уже на первых этапах творческой эволюции А. П. Чехов был устремлен к духовному реализму, который является, с нашей точки зрения, одной из ипостасей ирреализма, получившего обоснование в трудах П. Сакулина.
Список литературы Ирреализм в рассказах А.П. Чехова середины 1880-х гг.
- Гейдеко В.А. А. Чехов и Ив. Бунин. М.: Сов. писатель, 1976. 372 с.
- Герсон З.И. Композиция и стиль повествовательных произведений А.П. Чехова // Творчество А.П. Чехова. М.: Учпедгиз, 1956. С. 91-99.
- Гитович И., Малюгин Л. Чехов. Повесть-хроника М.: Сов. писатель, 1983. 580 с.
- Елизарова М.Е. Мировое значение творчества А.П. Чехова // Творчество А.П. Чехова. М.: Учпедгиз, 1956. С. 334-339.
- Захаркин А.Ф. Литературно-эстетические взгляды А.П. Чехова // Творчество А.П. Чехова. М.: Учпедгиз, 1956. С. 163-174.
- Николаева С. Ю. Сатирический рецепт и "врачество духовное" в творчестве А. П. Чехова // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2020. № 1 (64). С. 61-72.
- Питляр И.А. О художественном своеобразии рассказов А.П.Чехова // Творчество А.П. Чехова. М.: Учпедгиз, 1956. С. 175-182.
- Сакулин П.Н. Филология и культурология. М.: Высш. школа, 1990. 240с.
- Смирнов И.П. Художественный смысл и эволюция поэтических систем. М.: Наука, 1977. 203 с.
- Чехов А.П. Собрание сочинений: в 12 т. М.: Гослитиздат, 1955. Т.4. 640с.