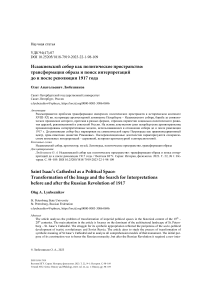Исаакиевский собор как политическое пространство: трансформация образа и поиск интерпретаций до и после революции 1917 года
Автор: Любезников О.А.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Российская история
Статья в выпуске: 1 т.22, 2023 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается проблема трансформации имперских политических пространств в историческом контексте XVIII-XX вв. на примере архитектурной доминанты Петербурга - Исаакиевского собора, борьба за символическое присвоение которого, протекая в разных формах, отразила перипетии социально-политического развития царской, революционной и советской России. На основе документов семи петербургских архивохранилищ проанализированы интерпретативные модели, использовавшиеся в отношении собора до и после революции 1917 г. До революции собор был маркирован на символической карте Петрограда как правоконсервативный центр, храм-памятник династии Романовых. Послереволюционные десятилетия характеризуются соперничеством возможных интерпретаций - церковной, историко-архитектурной и антирелигиозной.
Исаакиевский собор, архитектор, музей, ленинград, политическое пространство, трансформация образа
Короткий адрес: https://sciup.org/147239041
IDR: 147239041 | УДК: 94(47).07 | DOI: 10.25205/1818-7919-2023-22-1-98-109
Текст научной статьи Исаакиевский собор как политическое пространство: трансформация образа и поиск интерпретаций до и после революции 1917 года
Lyubeznikov O. A. Saint Isaac’s Cathedral as a Political Space: Transformation of the Image and the Search for Interpretations before and after the Russian Revolution of 1917. Vestnik NSU. Series: History and Philology , 2023, vol. 22, no. 1: History, pp. 98–109. (in Russ.) DOI 10.25205/1818-7919-2023-22-1-98-109
Процессы изменения символического значения городского пространства, архитектурных или скульптурных памятников в современной историографии находятся в центре внимания специалистов в области исторической памяти и политики памяти. За подобными трансформациями «отчетливо проступает властная основа символической политики: изменения такого рода наглядно отражают распределение власти и специфику процедуры принятия решений» [Малинова, 2018, с. 48]. Очевидно, что наиболее острая борьба за изменение символических посланий памятников разворачивается в кризисные периоды, особенно во время революционных событий. Потому при изучении революций «не только символы, но конфликты вокруг символов должны стать объектом исследования» [Колоницкий, 2012, с. 13].
Влияние русской революции 1917 г. на архитектурно-художественный ландшафт Петрограда оказалось весьма значительным: исчезали и появлялись целые группы скульптурных монументов, изменялись декоративное убранство и даже конструктивные элементы построек, городская топонимика [Святославский, 2013, с. 280–297; Сокол, 2001, с. 15–18]. Возникшие до революции архитектурные сооружения имперской столицы, наделяемые определенными смыслами и становившиеся символами, в новых условиях превращались в точки общественного напряжения, их образы претерпевали трансформации, менялось их место на символической карте города. Кроме того, физическая сохранность построек напрямую зависела от вкладываемых в них смыслов. В весьма уязвимом положении, особенно после принятия декрета «О свободе совести, церковных и религиозных обществах», оказались церковные строения. Одним из наиболее сложных примеров сооружения, поиск новых интерпретаций которого продолжался на протяжении десятилетий, является Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге.
Характеризуя историографию, посвященную Исаакиевскому собору, необходимо в первую очередь отметить нарочитую фрагментарность существующего нарратива – авторы XIX–XXI вв. интересовались преимущественно историей строительства здания [Серафимов, Фомин, 1865; Никитин, 1939; Ротач, Чеканова, 1990; Толмачева, 2018], почти не обращаясь к его дальнейшему бытованию. Еще одной особенностью сложившейся историографической ситуации можно признать известную ограниченность исследовательских ракурсов – история собора предстает историей православного храма, музеефицированного в раннесоветский период [Бутиков, Хвостова, 1974]; степень детализации рассказа об этих двух состояниях здания и их оценка варьируются (Из очага…, 1931) [Горе имеим сердца…, 2020], но сама бинарная основа нарратива – «храм – музей» – остается постоянной. Своеобразным апофеозом этого подхода, игнорирующего всю полноту, различия этапов и нюансы истории собора, ее многочисленных акторов, неоднократные изменения сложного социально-политического контекста XIX–XX столетий, можно считать новейшую диссертационную работу по культурологии [Голованова, 2019]. Ее автор, рассматривая историю Исаакиевского собора как перманентную и бесконфликтную «историю попечения государства», не столько снимает противопоставление музея храму, сколько в принципе отрицает содержательную разницу между этими институтами: «На протяжении всего периода своего создания и существования Исаа- киевский собор является проводником государственной политики в области сохранения культурного наследия» [Голованова, 2019, c. 190]. Представляется возможным предложить иной подход к осмыслению места и роли Исаакиевского собора в царской и советской России, рассмотрев во внутриполитическом контексте эволюцию возникавших (подчас соперничавших друг с другом) интерпретативных моделей его репрезентации.
Появление в Санкт-Петербурге храма, освященного в честь монаха Восточной Римской империи преподобного Исаакия Далматского, день памяти которого – 30 мая по юлианскому календарю – совпадал с датой рождения царя Петра I, приходится на первые десятилетия XVIII в. Первоначально деревянную церковь на рубеже 1710–1720-х гг. сменила каменная, название же храма оставалось прежним. По замечанию Ю. М. Лотмана и Б. А. Успенского, «церковно-культурная значимость» имени Исаакия Далматского была «скромной», Исаакий «напоминал людям Петровской эпохи в первую очередь о дне рождении их царя» [Лотман, Успенский, 2002, с. 358]. Анализировавший похвальное слово, произнесенное в день рождения императора в 1723 г. петербургским проповедником Гавриилом Бужинским, литературовед Ю. В. Стенник отметил не только сугубо «календарную», но и семантическую связь боровшегося с ересью Исаакия и Петра – «борца с тьмою и невежством» [Стенник, 2006, с. 12]. Г. Бужинский провозглашал: «День же самый, памятию великаго в праведных Исаакия Далматского, величайшаго веры противо ариан поборника и воина мужественнейшаго, украшенный, коль рождению сему приличнейший, егда в он восприят Россия и поборника своего, и воина мужественнейшаго, и защитника противо неприятелей, паче же реку избавителя и торжественника преславного!» (Бужинский, 2006, с. 52) Храм в память Исаакия Далматского оказывался одновременно храмом в честь российского монарха .
Символическая связь собора и Петра на протяжении XVIII в. оставалась прочной, неизменной была и топографическая связь храма с детищем монарха – Адмиралтейской верфью, по периметру которой и располагались сменявшие друг друга Исаакиевские церкви, посещавшиеся корабелами. Алтарь одного из приделов возводимого при Екатерине II по проекту архитектора А. Ринальди третьего по счету Исаакиевского собора (на месте современного, четвертого) должен был быть освящен в честь святого Николая Чудотворца (Богданов, 1779, с. 319), покровителя моряков, чье имя носил ботик Петра Великого – «дедушка русского флота» [Ларионов, 1976, с. 60].
Однако именно с царствования Екатерины II начинается процесс трансформации символического значения собора [Ананьев, 2012]. Так, алтарь другого придела строившегося храма планировалось освятить в честь святых Кира и Иоанна, в день памяти которых Екатерина приняла православие, а несколько позднее вступила на престол [Там же, с. 73–74]. Собор в честь святого Исаакия призван был таким образом увековечить уже не единственного российского монарха . Кроме того, богатство мраморной отделки храма должно было соответствовать его откорректированной роли в публичном пространстве столицы. Хотя решение «дом Бестужева-Рюмина, состоящий на Неве реке близ Исаакиевской церкви, взять под Сенат» принимал еще Петр III, фактически переезд высшего государственного учреждения монархии состоялся в екатерининский век [История Правительствующего Сената…, 1911, с. 13]. Став соседствовать с одним из административных органов, созданных Петром Великим, Исаакиевский собор оказался включенным в пространство власти .
Не будет ошибкой утверждение, что все последующие годы имперского периода мемориальное, идеологическое значение Исаакиевского собора если не превалировало над религиозным, то конкурировало с ним. Символическая связь здания с российскими монархами становилась все очевиднее. Решение императора Павла достроить третий Исаакиевский собор в кратчайший срок без использования природных мраморов для облицовки кирпичных фасадов и с искажениями первоначального замысла А. Ринальди породило известную эпиграмму, приписываемую лейтенанту Акимову:
Се памятник двух царств,
Обоим столь приличный:
Основа его мраморна,
А верх его кирпичный
(Де Санглен, 1882, с. 490–491).
Особенности внешнего облика здания увязывались со спецификой правления того или иного императора. Образ Исаакиевского собора стал маркировать царствования.
Александр I инициировал частичную перестройку здания собора, стремясь, по-видимому, с его помощью сохранить в городском ландшафте память не только об основателе империи Петре Великом, но и о Екатерине II. Разработка проекта нового храма-памятника архитектором Огюстом Монферраном пришлась на эпоху пика внешнеполитического могущества Российской империи, и четвертый (нынешний) Исаакиевский собор (1818–1858) визуально оказался внешне решен как европейский (интернациональный) классицистический храм. Украшенный многоколонными гранитными портиками, по образцу портика римского Пантеона, гигантскими скульптурными рельефами, бронзовыми статуями, облицованный натуральным камнем (мраморами, кварцитом) Исаакий О. Монферрана может быть помещен в один ряд с величайшими соборами Старого Света 1.
Работы по созданию интерьера собора проходили уже в ином политическом контексте, в царствование Николая I в 1840-е – начале 1850-х гг. Его «сценарий власти», по точному замечанию Р. Уортмана, предполагал, что зодчество используется «для демонстрации национальных свойств монархии», николаевская церковная «архитектура взяла на себя повествовательную историческую функцию, <…> стерла разрыв между петровской и московской Россией и ввела древнюю русскую историю во всеобщую перспективу» [Уортман, 2002, c. 498, 503]. Найденная идеологическая формула – уваровская триада – должна была получить зримое воплощение в оформлении Исаакиевского собора. Как указывала Е. И. Кириченко, один из крупнейших отечественных искусствоведов, собор явился «материализованным воплощением идеи официальной народности» [Кириченко, 2001, c. 224]. Интерьер, несмотря на сохранение О. Монферраном ориентации на стилистику ампира, буквально «кричит» о казавшейся неразрывной симфонии русской церковной и царской власти. Боковые приделы храма освящены в честь святой великомученицы Екатерины и святого князя Александра Невского, рассматривавшихся как небесные покровители монархов-предшественников Николая I. Изображения этих святых оказались помещены и на плафонах приделов, парные им в западной части здания – изображения небесных покровителей Петра I и самого Николая I – лики святого Исаакия Далматского и святой Февронии (Николай родился в день памяти святой). Плафон главного купола также символически «нагружен» – показана Богоматерь с предстоящими святыми Иоанном Предтечей, Иоанном Богословом, «а на остальном пространстве – Ангелами хранителями Членов Августейшего Дома» [Серафимов, Фомин, 1865, c. 71] – изображены апостолы Петр и Павел, святой Исаакий Далматский, святой Александр Невский, святая Анна, святая Елизавета, святая Екатерина, святой Алексий, святой Константин и святой Николай Чудотворец [Хвостова, 2016]. Идея увязать собор с царствующей династией проявилась и в оформлении главного иконостаса. «По сторонам царских врат две местные, владычные иконы – Спасителя и Божией Матери. От образа Спасителя направо – иконы преподобного Исаакия Далматского, Святителя Николая и св. апостола Петра. За иконою Божией Матери налево – иконы св. благоверного великого князя Александра Невского, св. великомученицы Екатерины и св. апостола Павла. <…> Лики святых, помещенных в этом нижнем ярусе, изображают Ангелов хранителей всех Державных Строителей Собора, начиная от первоначального его основателя – императора Петра I до благополучно царствующего ныне Довершителя его императора Александра II», – сообщало первое полное официальное описание храма 1865 г. [Серафимов, Фомин, 1865, c. 76]. Во втором ярусе главного иконостаса были показаны святые, соименные другим представителям императорской фамилии, – «Ангелы хранители прочих Членов Царствующего дома» [Там же]. Еще в ходе работ Нико-
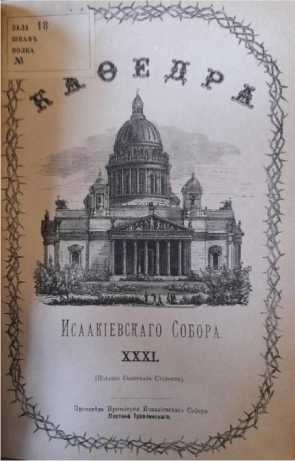
Титульный лист издания «Кафедра Исаакиевского собора».
1881. Вып. 31
Title page of the publication “Chair of St. Isaac’s Cathedral”.
1881. Iss. 31
лай I придавал огромное значение этим изображениям святых, лично просматривая подготовительные картоны художника-исполнителя Т. Неффа и высказывая замечания, например, «облагородить фигуру апостола Петра» 2. Решение интерьера Исаакиевского собора объединяло православие и самодержавие Николаевской эпохи. Декларация этого единства обнаруживается и в декоре дверей здания (их внешние и внутренние рельефы посвящены «небесным патронам» членов династии), и в росписях, открыто изображающих русских правителей – Владимира I, Петра Великого и т. д. Таким образом, работы по созданию интерьера Исаакиевского собора символически усложнили его: собор стал символом незыблемости российской монархии, из памятника Петру I превратился в памятник и Николаю I и всей династии Романовых .
Хотя история бытования собора как кафедрального храма после освящения в 1858 г. вплоть до революции 1917 г. детально не изучена и не прописана, можно предположить, что найденная в момент его освящения интерпретация как храма-памятника, прославляющего монархию , оставалась доминирующей. Сама действовавшая система управления и заведования зданием подчеркивала особый статус собора: надзор за состоянием памятника, ремонтно-реставрационные работы осуществляло Техническо-Художественное Совещание, подведомственное Министерству внутренних дел; хозяйственные вопросы, в том числе деятельность духовенства собора, разрешались Хозяйственным управлением от Синода; спорные случаи, однако, разбирать должен был министр внутренних дел (Преображенский, 1911, с. 3) 3.
Символическое послание памятника было выражено главным образом архитектурно-художественными средствами, собор оказывал пассивное влияние самим своим обликом. Но на рубеже 1870–1880-х гг. образ Исаакия несколько корректируется – отныне это «живой» храм-памятник, центр прямой монархической агитации. Трансформация обусловлена внутриполитическим контекстом – сама идея монархии была поставлена под сомнение народовольческим террором. Соборный староста и одновременно многолетний сотрудник Министерства внутренних дел генерал Е. В. Богданович начал издание распространявшихся бесплатно брошюр «Кафедра Исаакиевского собора», содержавших проповеди клириков 4. На обложках мартовских 1881 г. выпусков «Кафедры» графическое изображение Исаакиевского собора оказалось помещено в терновый венец – символ мученической кончины погибшего императора Александра II (см. рисунок).
Промонархическая ультраправая риторика сохранялась на страницах «Кафедры» и в начале XX в., в период революции 1905–1907 гг. Символическая «спаянность» Исаакиевского собора и российской монархии подчеркивалась в это время и в массовой печати, напрямую не связанной с духовенством собора. Образ собора присутствовал на открытках в честь 200-летия Петербурга, соседствуя с фигурой основателя города, императора Петра I, и на открытках в честь 300-летия династии Романовых. Весьма популярным на открытках начала XX в. было изображение Исаакиевско- го собора как фона для памятника Петру I «Медный всадник». Собор представал неотъемлемым элементом Петербурга-Петрограда, столичным символом, связывающим ее с монархией. К исходу имперского периода Исаакиевский собор символически оказался прочно связан с самодержавной властью, став политическим пространством.
Революционные события 1917 г., отречение представителей династии Романовых от престола, падение самодержавия, отразившись на всем ходе российской истории, обусловили вынужденные перемены в судьбе Исаакиевского собора. Отсутствие достаточного финансирования в первое десятилетие советской власти, а также давние особенности проектирования и строительства привели сооружение в аварийное состояние [Любезников, 2017], претерпел изменения и образ храма.
Прежний образ собора обессмертил А. И. Куприн. Героям его повести «здания не видно», только дрожащий в воздухе купол Святого Исаакия Далматского (Куприн, 1992, с. 74) – собор как символ монархической (утраченной) России сохранился в эмиграции. В Петрограде же различные акторы стремились получить контроль над зданием, сохранить его (в той или иной степени), обязательно изменив, однако, его символическое послание. Представляется чрезвычайно важным для лучшего понимания всей сложности протекавших в Исаакиевском соборе в первое послереволюционное десятилетие процессов попытаться выделить возникшие в тот период новые интерпретативные модели постройки. На наш взгляд, 1920-е гг. стали временем конкуренции образов собора, периодом острого соперничества трех символических программ .
Первую модель восприятия задали представители сформированной в соответствии с инструкцией «О порядке проведения в жизнь декрета “Об отделении церкви от государства и школы от церкви”» церковной общины – «двадцатки» (по числу членов общины). Взяв на себя (по условиям заключенного 21 декабря 1919 г. договора с Районным Советом рабочих и крестьянских депутатов 2-го Городского района Петрограда) формальные обязательства по заведованию сооружением и его ремонту и не имея возможности выполнять последний, «двадцатка» и среди прихожан, и в переписке (посредством Приходского совета) с органами советской власти представляла Исаакиевский собор почти исключительно 5 как православный храм, отказавшись от увязывания его с рухнувшейся монархией. Эта «утилитарная модель» Исаакия как приходской церкви в случае ее утверждения, нивелируя мемориальную ценность здания, потенциально угрожала самой его сохранности, неприкосновенности его интерьера. По мере превращения советской антицерковной политики в антирелигиозную на протяжении 1920-х гг. такая интерпретация собора, даже формальные параметры которого (высота в 101,5 метра) не соответствовали рядовой церковной архитектуре, не могла «удержаться».
Другую модель транслировали наблюдавшие за техническим состоянием здания еще с дореволюционного времени (в том числе в рамках Техническо-Художественного Совещания) профессиональные архитекторы – профессора и выпускники Академии художеств, которые видели в соборе в первую очередь требовавший перманентной реставрации памятник искусства. У истоков этой интерпретации – архитектор Михаил Тимофеевич Преображенский (1854–1930), профессор-руководитель персональной мастерской на Архитектурном отделении Высшего художественного училища при Академии художеств, фактически возглавлявший Техническо-Художественное Совещание с начала 1910-х гг. 6 Уже в решении Совеща- ния от 9 марта 1918 г. об обращении к Народному Комиссару А. В. Луначарскому с ходатайством о выделении финансовых средств «для поддержания Собора» здание было прямо названо «памятником, имеющим высокохудожественные достоинства и крупную государственную ценность» 7. 28 июля 1919 г. М. Т. Преображенский составил и через два дня представил на заседании Археологического отдела Отдела по делам музеев и охраны памятников искусства и старины Наркомпроса «Пояснительную записку к проектируемому помещению архива в здании Исаакиевского собора». М. Т. Преображенский предложил «в чердаке здания собора над северо-восточным приделом» организовать «помещение архива, удобное, как музей, для посещения посторонними лицами» и сосредоточить в здании собора всю совокупность документов по истории проектирования, строительства и оформления здания. Архитектор полагал, что такой архив, включающий не только чертежи, рисунки и эскизы, но и «оригиналы икон и живописных картин, замененных мозаикой», и «не сложные модели», должен находиться именно в самом соборе, чтобы посетитель имел возможность осмотреть и его и само здание одновременно, познакомиться «с конструкцией здания и с историей сооружения грандиозного памятника, в который вложено столько таланта и 45 лет народного труда» (курсив наш. – О. Л.) 8. Уже в 1919 г. М. Т. Преображенский использует риторику, характерную для новой революционной власти, соединяя процесс строительства Исаакиевского собора с дискурсом труда. Эту же линию он продолжит в 1922 г., составив записку против изъятия церковных ценностей из Исаакия. В ней М. Т. Преображенский подчеркивал коллективный характер работы по возведению Исаакиевского собора. «Исаакиевский собор не следует рассматривать как индивидуальное творчество архитектора Монферрана – автора первоначального проекта и строителя собора. Исторические данные свидетельствуют, что творчество это коллективного характера, так как в разработке проекта и создании самого храма принимали участие почти все выдающиеся художественные и технические силы страны, начиная с архитекторов, инженеров, живописцев, скульпторов, мозаичистов и кончая мастерами разных цехов». Избегая каких бы то ни было упоминаний о том, что в соборе проходят богослужения, о том, что это церковь, М. Т. Преображенский старательно подчеркивает его значение именно как памятника искусства: «…здание собора со всей обстановкой и утварью, выполненное от A до Z по тщательно разработанным чертежам и рисункам известных художников, является наиболее выразительным и грандиозным памятником искусства в России XIX столетия» 9.
В том же 1922 г. М. Т. Преображенский в полугодовом отчете, по-видимому, как сотрудник Академии истории материальной культуры сообщил о подготовке экспозиции « небольшого музея при самом здании собора » 10 (спустя год архитектор представлял себе музей как «музей построения, охраны и поддержания памятника при самом же здании Исаакиевского собора» 11).
М. Т. Преображенским и его учениками по Академии художеств, младшими (беспартийными, как и он сам) коллегами-архитекторами по различным учреждениям, занятым охраной петроградских памятников, в том числе по Ленинградской Государственной Реставрационной мастерской 12, – Николаем Петровичем Никитиным (1884–1971), Александром Петровичем Удаленковым (1887–1975) – в 1920-е гг. Исаакиевский собор был интерпретирован как выдающийся памятник искусства . Ими было предложено зафиксировать этот образ с помощью музея , в каковом виделся инструмент сохранения здания во всей его целостности.
Будучи приверженцами «национального стиля» в русской дореволюционной архитектуре (под которым понимался и русский классицизм), эти архитекторы-реставраторы подчеркивали роль не столько главного архитектора собора О. Монферрана, сколько отечественных зодчих и других мастеров, работавших над возведением здания. Это делало предлагаемую интерпретацию близкой утвердившимся идеологическим установкам, однако она лишь ретушировала религиозное назначение собора 13 и открыто не отвергала его монархическое символическое послание.
Третью модель интерпретации Исаакиевского собора, появление которой относится к рубежу 1920–1930-х гг., можно считать радикальной – это модель антихрама – « бывший Исаакиевский собор ». Такое дополнение получило к собственному наименованию открывшееся в здании собора в 1931 г. учреждение – Государственный антирелигиозный музей. Закреплявшая интерпретацию коллективная монография руководителей музея под весьма характерным заглавием «Из очага мракобесия в очаг культуры», написанная в том же 1931 г., акцентировала внимание читателей на трудностях при рождении музея: «Борьба за превращение собора в антирелигиозный музей велась в течение трех лет» (Из очага…, 1931, с. 9). Действительно, еще летом-осенью 1928 г. Н. П. Никитин как сотрудник Реставрационной мастерской стал готовить к открытию (буквально перевозить экспонаты) первую, сугубо историко-художественную, соответствующую замыслам М. Т. Преображенского, выставку в изъятом у «двадцатки» по постановлению Президиума ВЦИК соборе. Но предложенная им концепция встретила противодействие в Управлении Уполномоченного Наркомпроса в Ленинграде, и летом 1930 г. собор был передан в ведение Областного отдела народного образования, чтобы музей строился «по единому плану с работой Дома Безбожника» 14. Именно Ленинградский Областной совет Союза воинствующих безбожников (СВБ) явился тем актором, что разработал модель бывшего собора . Как указывал первый директор Антирелигиозного музея Л. Н. Финн, «три года Областной совет СВБ ожесточенно бился с тогдашними руководителями собора 15 за это дело» (Из очага…, 1931, с. 9). Борьба за «овладение» собором как реальным объектом сочеталась с борьбой за его «правильное» семантическое прочтение.
Поскольку документально обоснованной и целостной истории Антирелигиозного музея еще не создано, можно пока лишь с некоторой осторожностью отметить, что на персональном уровне важное место в работе музея (и в деле поддержания образа антихрама) занимали молодые кадры. Это были студенты и выпускники Историко-лингвистического факультета Ленинградского университета (Ленинградского института истории, философии и лингвистики), в первую очередь, естественно (хотя это и никогда не отмечалось в историографии об Исаакиевском соборе), группировавшиеся вокруг главы Ленинградского Областного совета СВБ, профессора, заведующего отделением по истории религии ЛИФЛИ [Шахнович, Чумакова, 2016, с. 63] Николая Михайловича Маторина. В 1920-е гг. Н. М. Маторин – секретарь председателя Петроградского совета Г. Е. Зиновьева, виражи карьеры которого отразились в итоге и на судьбе Н. М. Маторина, и, по-видимому, на судьбе Антирелигиозного музея в середине 1930-х гг. 16, когда поиск интерпретаций Исаакиевского собора продолжился с новой силой.
Революция 1917 г. разрушила казавшуюся неделимой семантическую связь петроградского Исаакиевского собора и монархии Романовых. Расположение, колоссальные размеры здания, уникальный декор, – все эти сугубо внешние (даже если речь идет об интерьере) параметры уже сами по себе требовали осмысления, интерпретации, которая соответствовала бы новому антимонархическому контексту. 1920-е гг. стали временем первых поисков таковой. Сложная картина борьбы за присвоение собора не может быть сведена к простому противопоставлению «храм – музей» или «верующие – большевики», «Церковь – советская власть». История Исаакиевского собора в 1917–1931 гг. – иллюстрация сложности социально-политических процессов в раннесоветской России.
Список литературы Исаакиевский собор как политическое пространство: трансформация образа и поиск интерпретаций до и после революции 1917 года
- Ананьев В. Г. От Иерусалимского храма до памятника царю: К семиотике третьего Исаакиевского собора / В. Г. Ананьев // Вестник литературы, истории и искусства. - 2012. - Т. 8. - С. 72-82.
- Бутиков Г. П. Исаакиевский собор / Г. П. Бутиков, Г. А. Хвостова. - Л.: Лениздат, 1974. - 165 с.
- Голованова А. В. История Исаакиевского собора как отражение культурной политики государства: Дис. … канд. культурологии / А. В. Голованова. - СПб., 2019. - 213 с.
- Горе имеим сердца!: к 30-летию возрождения богослужений в Исаакиевском соборе / Сост. А. В. Голованова, В. О. Яковлев. - СПб.: ГМП «Исаакиевский собор», 2020. - 40 с.
- Друзин М. В. Е. В. Богданович: общественный деятель пореформенного времени / М. В. Друзин // Российская история. - 2020. - № 1. - С. 91-101. https://doi.org/10.31857/S086956870008275-3
- История Правительствующего Сената за 200 лет: 1711-1911. - СПб.: Сенатская тип., 1911. - Т. 5. - 244 с.
- Кириченко Е. И. Запечатленная история России. Монументы XVIII - начала XX века / Е. И. Кириченко. - М.: Жираф, 2001. - Кн. 1: Архитектурный памятник. - 352 с.
- Колоницкий Б. И. Символы власти и борьба за власть: к изучению политической культуры российской революции 1917 г. / Б. И. Колоницкий. - СПб.: Лики России, 2012. - 320 с.
- Ларионов А. Л. Ботик Петра I / А. Л. Ларионов // Судостроение. - 1976. - № 7. - С. 59-64.
- Лотман Ю. М. Отзвуки концепции «Москва - третий Рим» в идеологии Петра Первого (К проблеме средневековой традиции в культуре барокко) / Ю. М. Лотман, Б. А. Успенский // Лотман Ю. М. История и типология русской культуры / Ю. М. Лотман. - СПб., 2002. - С. 349-361.
- Любезников О. А. Исаакиевский собор в 1917-1920-е гг. Архитекторы М. Т. Преображенский, Н. П. Никитин, А. П. Удаленков и проблема музеефикации памятника / О. А. Любезников. - СПб.: ЛЕМА, 2017. - 68 с.
- Малинова О. Ю. Политика памяти как область символической политики / О. Ю. Малинова // Методологические вопросы изучения политики памяти. - М.; СПб., 2018. - С. 27-53.
- Никитин Н. П. Огюст Монферран. Проектирование и строительство Исаакиевского собора и Александровской колонны / Н. П. Никитин. - Л.: Ленингр. отд-ние Союза сов. архитекторов, 1939. - 348 с.
- Ротач А. Л. Огюст Монферран / А. Л. Ротач, О. А. Чеканова. - Л.: Стройиздат, 1990. - 221 с.
- Святославский А. В. История России в зеркале памяти. Механизмы формирования исторических образов / А. В. Святославский. - М.: Древлехранилище, 2013. - 592 с.
- Серафимов В. И. Описание Исаакиевского собора в С.-Петербурге, составленное по официальным документам / В. И. Серафимов, М. И. Фомин. - СПб.: Тип. Гогенфельдена и Ко, 1865. - 193 с.
- Сокол К. Г. Монументы империи: Описание двухсот наиболее интересных памятников императорской России / К. Г. Сокол. - М.: Грантъ, 2001. - 455 с.
- Стенник Ю. В. Петр I в русской литературе XVIII века / Ю. В. Стенник // Петр I в русской литературе XVIII века (Тексты и комментарии). - СПб., 2006. - С. 3-50.
- Толмачева Н. Ю. Исаакиевский собор. История строительства / Н. Ю. Толмачева. - СПб.: Политехника-принт, 2018. - 320 с.
- Уортман Р. С. Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии / Р. С. Уортман. - М.: ОГИ, 2002. - Т. 1: От Петра Великого до смерти Николая I. - 608 с.
- Хвостова Г. А. О росписи К. П. Брюлловым купола Исаакиевского собора / Г. А. Хвостова // Петербургские искусствоведческие тетради. Статьи по истории искусства. - СПб., 2016. - С. 74-83.
- Шахнович М. М. Идеология и наука. Изучение религии в эпоху культурной революции в СССР / М. М. Шахнович. - СПб.: Наука, 2016. - 365 с.
- Богданов А. И. Историческое, географическое и топографическое описание Санкт-Петербурга, от начала заведения его, с 1703 по 1751 годы / А. И. Богданов. - СПб.: Тип. Военной коллегии, 1779. - 528 с.
- Бужинский Г. Sermo panegyricus in diem natalem Serenissimi ac Potentissimi Petri Magni / Г. Бужинский // Петр I в русской литературе XVIII века (Тексты и комментарии). - СПб., 2006. - С. 51-61.
- Де Санглен Я. И. Записки / Я. И. Де Санглен // Русская старина. - 1882. - Т. 36, № 12. - С. 443-498.
- Из очага мракобесия в очаг культуры: Сб. ст. - Л.: Огиз-Прибой, 1931. - 84 с.
- Куприн А. И. Купол Святого Исаакия Далматского / А. И. Куприн // Куприн А. И. Эмигрантские произведения. Купол Святого Исаакия Далматского. Извощик Петр / А. И. Куприн. - М., 1992. - С. 10-82.
- Преображенский М. Т. Отчет по командировке собранием Академии художеств в междуведомственную комиссию по Исаакиевскому собору для выяснения необходимого ремонта по зданию и исчислению потребных на то средств / М. Т. Преображенский. - СПб.: Тип. СПб. градонач, 1911. - 32 с.