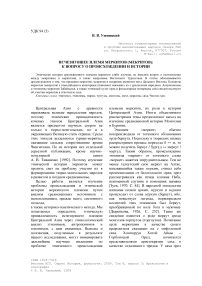Исчезнувшее племя меркитов (мекритов): к вопросу о происхождении и истории
Автор: Ушницкий Василий Васильевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Археология Евразии
Статья в выпуске: 3 т.8, 2009 года.
Бесплатный доступ
Этническая история средневекового племени меркитов слабо изучена, не выяснен вопрос о соотношении между мекритами и меркитами, а также мекринами Восточного Туркестана. В статье обосновывается предположение о том, что предками меркитов, мекритов и мекринов являются мохэ Дальнего Востока. Контакты меркитов (мекритов) с самодийцами и юкагирами позволяют связывать их с уральскими народами. Антропонимы и топонимы меркитов Забайкалья, а также тотемный культ орла и фольклорные материалы саха свидетельствуют об участии меркитов в этногенезе саха.
Этногенез, этнонимы, тюрки, тунгусы, монголы, мохэ, меркиты, саха, чингис-хан
Короткий адрес: https://sciup.org/14737083
IDR: 14737083 | УДК: 94
Текст научной статьи Исчезнувшее племя меркитов (мекритов): к вопросу о происхождении и истории
Центральная Азия с древности переживала великие переселения народов, поэтому этническая принадлежность кочевых этносов Центральной Азии является предметом научных споров не только в тюрко-монгольских, но и в окружающих Великую степь странах. Среди этих этносов выделяются гурван-меркиты, оказавшие сильное сопротивление армии Чингисхана. По их истории нет отдельной серьезной публикации, кроме научнопопулярной книги
А. В. Тиваненко [1992]. Поэтому изучение этнической истории меркитов может пролить свет на проблему участия их в формировании тюрко-монгольских народов в развитом и позднем средневековье.
Целью работы является изучение проблемы происхождения и этнической истории меркитского племени путем анализа средневековых источников с использованием, прежде всего, системного подхода, а также историко-генетического метода. Мы попытаемся определить этническую принадлежность исчезнувшего племени
Центральной Азии через этимологический анализ этнонимов, антропонимов и топонимов, с ним связанных. Выводы и положения, полученные в результате нашего исследования, могут инициировать дальнейшие научные изыскания по проблеме этнического происхождения племени меркитов, их роли в истории Центральной Азии. Итоги объективного рассмотрения темы предполагают выход на изучение средневековой истории Монголии и Бурятии.
Этноним «меркит» обычно воспроизводили от тотемного обозначения орла-беркута. Поскольку в тюркских языках распространен процесс перехода б ↔ м, то можно получить беркут / бургуд ↔ меркут / мургуд. Таким образом, происхождение этнонима «меркит» от тотемного слова «меркит» кажется затруднительным. Тем не менее телеутский сеок меркут на Алтае, называвшийся также меркит , считал себя произошедшим от белоголового орла; орел рассматривался как птица хозяина Неба, неизменный спутник и помощник шамана [Зуев, 1970. C. 84]. В народной этимологии название сеоков иркит , мÿркут и меркит происходит от слова мÿркут (беркут), ибо, как повествует легенда, первопредком носителей этих этнонимов был беркут, преображенный по воле бога в мужчину [Дыренкова, 1926. C. 252]. Такие же сведения имеются о роде меркут среди монголов-торгаутов (торгоутов). Почитание орла меркитами в качестве своего прародителя связывает их с мифологией саха. Хомпоруун Хотой Айыы – Горбоносый Орел, почитается представителями аристократии саха в качестве отдаленного предка. У саха орел
ISSN 1818-7919
Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2009. Том 8, выпуск 3: Археология и этнография
также ассоциируется с солнцем [Штернберг, 1936].
Исходя из изложенных выше сведений можно полагать, что меркиты, вероятно, были потомками древнего населения Южной Сибири, почитавшего орла (беркута) в качестве своего родоначальника. По мнению Ю. А. Зуева, тотем орла связывает меркитов с древними ариями [Зуев, 1970. C. 84]. Ранее этот вывод сопровождался упоминанием наличия индоиранского субстрата в составе саха, по мнению якутских этнографов, восходящего к пазырыкской культуре, которая считается стартовой для якутской этнокультуры [Гоголев, 1993]. Однако не все современные археологические и генетические исследования связывают пазырыкцев с индоиранцами. Спорными являются и возведение культа Орла у саха к древним ариям, и утверждение о преобладании общего с народами Северной Индии генотипа NLA в мужском генофонде саха и о наличии санскритского слоя в языке саха.
Этноним меркит можно связать и со словом мерген , широко распространенным в алтайских языках (считается заимствованным из монгольских языков). Так, в тюркских языках мерген (варианты market, мирген, мергин, бэргэн) имеет следующие значения: умный, ловкий, меткий; ружейная охота, снайпер; сильный, силач, храбрый, удалой – як. бэргэн ; ружейная охота; герой. В письменном монгольском mergen – мудрый, умный, опытный, способный; в калмыцком мергн – снайпер, меткий стрелок; мудрый, способный; меткий, ловкий; в бурятском мэргэ ( н ) – меткий стрелок. Мерген – обычный эпитет былинных героев у монголоязычных народов. В тунгусоманьчжурских языках слово мэргэн имеет значения молодец, богатырь, мудрый, храбрец [Сравнительный словарь…, 1975]. М. Фасмер предположил индо-иранское происхождение mergen (древнеиндийское mrgayus – охотник; mrgyati – охотиться) [Этимологический словарь…, 2003].
По нашему же мнению, происхождение этнонима меркит следует связывать с обозначением орла-беркута в тюркских языках Саяно-Алтая. Тем более, что есть сведения о существовании меркитов в Саяно-Алтае еще в древнетюркскую эпоху.
Впервые, в Тан-шу, они упоминаются под именем ми-ли-гэ (в юаньскую эпоху китайцы слово «меркэ» передавали иероглифами мэ-ли-ци ). Для жилья они строили деревянные срубы, крытые берестой («Юань-чао-ми-ши» упоминает только о городках, служивших меркитам опорными пунктами), и существовали охотой и коневодством. По словам Н. Я. Бичурина, милигэ в VII в. н. э. проживали в горно-таежном районе Саян и вокруг озера Хубсугул и вместе с Дубо и Эчжи составляли три аймака, входившие в состав Восточного Тюркского каганата [Бичурин, 1953. C. 254].
О вхождении милиге-меркитов в состав древних тюрок свидетельствует их обозначение – мума тукюэ , т. е. «лыжные тюрки». В противовес вышесказанному, есть другие сведения – о незнании ими ни скотоводства, ни землепашества и проживании за счет собирательства, охоты и рыболовства. К тому же дубо одевались в одежду из соболиных шкур и оленьей кожи, у них существовал обычай умерших класть в гробы и ставить на горах или же привязывать на деревьях [Бичурин, 1953. C. 254]. Данный обычай сравним с традицией «воздушных погребений», именуемых арангасами , в погребальных обрядах якутских шаманов.
Л. Н. Гумилев меркитов помещал в Саянском или Урянхайском крае и относил к самодийцам – древним насельникам края. В ходе борьбы со своими извечными врагами – кыргызами, саянские лесовики объединялись с курыканами – «курумчинскими кузнецами» [Гумилев , 1993. C. 264]. Таким образом, меркиты были лесным племенем, обитавшим между Саянами и Ангарой.
Поскольку меркиты до переселения в Забайкалье были обитателями Саяно-Алтайского региона, то хотелось бы обратить внимание на тот факт, что дореволюционные исследователи этногенеза саха, оперировавшие преимущественно фольклорными и лингвистическими материалами, говорили о саяно-енисейской прародине саха. Указания на существовавшие у якутов предания об обитании предков саха в Саяно-Енисейском крае постоянно встречаются в трудах русских и иностранных путешественников и исследователей XIX в.
Так, по записям П. Кларка, у вилюйских саха до середины XIX в. сохранялись предания о кочевании их предков в верховьях Енисея, затем около Байкала [Гоголев, 1993. C. 54]. Барон Майдель зафиксировал предания об исходе саха с Енисея. Этот сюжет присутствует также в работах Н. Ф. Остолопова, Н. Н. Щукина, Н. А. Кострова, где сведения фольклорных источников еще более конкретизированы: исторический предок саха Омогой Баай со своим народом обитал на Енисее, оттуда был вытеснен в бурятскую степь [Ксенофонтов, 1992].
Известно, что в монгольское время, в XI–XIII вв., меркиты обитали уже на территории Центральной Бурятии. Это совпадает с данными якутского фольклора о проживании их предков в течение долгого времени вместе с народом бэрээт по хребтам Ат-Дабаан, Огус-Дабаан, Хаамар-Дабаан [Боло, 1994. C. 31, 32]. Интересно, что в Западном Забайкалье имеется хребет под названием Хаамар-Дабаан, чье название пытаются объяснить на основе монгольских слов; однако в якутском языке он получает гораздо более точное определение – хребет, который можно пройти пешком.
Следует отметить и тот факт, что компактный район óканья в хоринском диалекте бурятского языка совпадает с предполагаемым районом меркитских кочевий. В óканье бурятские лингвисты видят яркие следы тюркского влияния на бурятский язык [Тиваненко, 1992. C. 57]. Такое же диалектное деление на окающие и акающие говоры встречается и в языке саха. При этом акающий диалект принято связывать с фактом объякучивания монголоязычных групп на Средней Лене.
Бурятские ученые сделали вывод о том, что при передвижении основной массы предков саха отдельные их группы остались на занимаемых ими ранее территориях. Так, они могли осесть в богатых пастбищами долинах рек, в частности Тугнуя и Курбы в Забайкалье. Именно там можно встретить сильно развитое óканье, что указывает на ассимиляцию этого субстрата основной монголоязычной массой населения региона [Буряты, 2004. C. 232].
Действительно, некоторые антропонимы и топонимы меркитского происхождения объяснимы средствами языка саха. К таким антропонимам следует отнести имена знаменитых людей из племени меркитов Тохтоа-Боко, Чильгир-Боко, Туракины-хатун, Кулан-хатун, Даир-Усуна, Тогуз-Боко и др. [Ушницкий, 2004]. Д. Д. Нимаев, утверждая, что антропонимический материал свидетельствует о монголоязычии этого племени, производит имя Тохтоа от монгольского слова «тогто (хо)» – остановиться, стать [Нимаев, 2007. С. 69]. Однако подобное слово имеется и в тюркских языках, в частности в языке саха и в кыргызском.
Следует обратиться к отраженной в исторических хрониках топонимике Забайкалья, связанной с меркитами. Так, названия исторических мест, относимых к битвам меркитов с монгольскими армиями, объясняются на основе языка саха. Например, название священного места меркитов Тайхая связывается с якутскими словами таай – дядя, хайа – гора. В имени крепости Харата-Худжаур первое слово топонима происходит от якутского Хара тыа – черный лес. Второе слово топонима Муроча-сеул образовано от слова сиэл – грива, хвост лошади; современная местность Тойон около предполагаемой ставки меркитских вождей могла получить свое название от якутского тойон – господин [Ушницкий, 2004].
В археологическом отношении с меркитами связывается саянтуйский этап хойцегорской культуры Западного Забайкалья
X–XII вв. Весьма интересно, что Ф. Ф. Васильев отмечал определенное сходство элементов погребальной культуры саха с памятниками этой археологической культуры [Васильев, 1995. С. 40]. Саянтуйцы являются преемниками хойцегорской культуры, отождествляемой с древними уйгурами. Поэтому А. В. Тиваненко считает меркитов потомками древних уйгуров, тем более, что среди них было племя уйкур [Тиваненко, 1992. C. 57].
Меркиты разделялись на три племени, подобно тому, как саха называли себя Yс Саха (три Саха).
Одним из них являлось племя хаат-хаатай. Термин хаат может быть сравним с традицией почитания хатов – реальных или мифических предков у бурят. Т. Д. Скрынникова возводит эту бурятскую традицию к угорским народам Приобья, в языке которых хатай – покойник, череп, а словосочетание ха та – умерший [Скрынникова, 1997. C. 175].
Название второго племени меркитов – Хоас, связывается с именем хоринского рода хуасай , по этой причине считающегося потомком меркитов. Хуасаевцы обитали на исторической прародине меркитов и сохранили историческую память о событиях 800-летней давности [Тиваненко, 1992].
По мнению Г. Н. Румянцева, хаосай (хоринцы) и хаосай (хоас) меркиты (уваз-меркиты, по Рашид-ад-дину) находятся в генетическом родстве; иначе говоря, этот бурятский род происходит от меркитов и включен в состав хори-туматов в XIII в. [Румянцев, 1962. C. 141, 142].
Ц. Б. Цыдендамбаев, приняв во внимание тот факт, что слово «сай» встречается в качестве названия местности, пришел к выводу: «…бурятское хуа в этнониме хуасай могло получиться из куба» [Цыдендамбаев, 1972. C. 101]. Действительно, хуасаевцев иногда называют хубасаевцами. Культ лебедя распространен у хоринских бурят, среди саха лебедя считали своим прародителем в основном потомки Омогоя – намцы и батулинцы.
Другим названием хоас-меркитов было увас-меркиты. Название эвенкийского рода увачан возводят к имени этого племени. Примечательно, что это имя напоминает любовно-ласкательную форму от слова саха убай – старший брат. Род Увачан, обитавший на Нижней Тунгуске, считался имевшим «примесь якутской крови» – эти люди сочетали в своем хозяйстве скотоводство и оленеводство [Туголуков, 1985. C. 139].
Тохтоо-Боко после поражений от монголов Чингисхана и Тогрула обычно уходил в страну Баргучжин. Поэтому интересно, что род увакасиль или вокарай в составе забайкальских эвенков Г. М. Василевич и В. А. Туголуков связывали с мекритами или меркитами. Среди тунгусов восточного побережья Байкала встречается Вакарайский род, включавший как коневодов, так и оленеводов [Туголуков, 1980. C. 162].
У эвенков можно встретить предания о борьбе с народом железных богатырей «бекри», у которых и кони были закованы в железо. Они потерпели поражение и были ассимилированы тунгусами-эвенками
[Туголуков, 1985. C. 190]. Однако Д. Д. Нимаев предпринятое В. А. Туголуковым сопоставление этнонимов меркит – бекри с тунгусским вокарай считает слишком натянутым [Нимаев, 2007. С. 68].
К концу XIII в. относится сообщение Марко Поло о том, что в долине «Бангу» (Баргу) живут дикие охотники и скотоводы «мекри». У них было много оленей; на оленях они ездили. Нравы и обычаи у них, как у татар, они якобы тоже признавали власть великого хана. Эти «мекри» проживали в местности, где зимой из-за великого холода не жили ни зверь, ни птица. А летом они охотились на зверей и птиц. По утверждению Марко Поло, через сорок дней можно дойти до моря-океана, где есть горы, где соколы-пилигримы вьют гнезда. Место это, якобы, находится так далеко на севере, что северная звезда остается позади к югу [Марко Поло, 1997. C. 239].
Считается, что упоминаемая в рассказе Марко Поло долина Баргу, где есть море-океан, это Байкал с островом Ольхон, на севере которого есть долина Баргузин. Однако в другом месте сочинения Марко Поло, при рассказе о «Росии», вновь встречается сюжет о море-океане с островами, на которых водились орлы-кречеты, привозимые великому хану [Там же. C. 370]. Отсюда ясно, что речь может идти только о Великом Ледовитом океане, его морях и островах, а не о Байкале, поскольку на Байкале после походов Чингисхана меркитов не осталось – они либо были истреблены, либо бежали, либо были насильно переселены в чужие края.
М. П. Алексеев и Г. Юль в мекритах видят тунгусов, а не тюркское или монгольское племя. Более того, Юль в этом описании усматривает ясное указание на ландшафт между Якутском и Колымой, замечая, что Марко Поло «получил сведения от очевидцев». При этом приводится цитата из описания путешествия Врангеля, где последний говорит о природе и фауне Нижне-Колымска [Алексеев, 1941. C. 38].
Эта страна в отличие от монгольских степей имела «много озер, прудов и болот», притягивавших стаи перелетных птиц. Арктика и образ жизни его обитателей наглядно видны в описании Марко Поло: «Питаются также птицами… Птицы, когда линяют, так пребывают в этих местах. Когда же совсем оголяют, так не могут лететь и их ловят тогда, сколько хотят. Едят также рыб» [Алексеев, 1941. C. 34]. Именно в связи с мекритами впервые обнаруживается описание образа жизни, который в дальнейшем становится характерным для саха и разных тунгусских групп. Так, мекриты разделялись на группы скотоводов и оленеводов, большую роль также играла охота на птиц и зверей.
В этой связи хотелось бы отметить то, что пионерами освоения тундры Северо-Востока Якутии среди тунгусских групп являются вакараи – потомки меркитов. Следы вакараев встречаются на весьма обширном пространстве Северной Сибири: в бассейне Нижнего Енисея – гидроним Вакарай; на Алазее – юкагирский этноним Вагарил; на Чукотке – реки Вакривай и Чаван-Вага-рин, впадающие в Ледовитый океан; на Анадыре – приток Вакарина; в бассейне р. Амгунь, в составе негидальцев, имелись вакасилы, или вакагилы [Туголуков, 1980. C. 166]. Поэтому следует напомнить, что именно с мохэ связывают проникновение тунгусов с Дальнего Востока в I тыс. н. э. и приход эпохи железа на территорию Якутии.
-
А. А. Бурыкин первым указал на связь этнонима вакарай с юкагирами. В юкагирском языке вагарииль означает ‘предок, родоначальник’, вагариил – исконные, коренные (также название рода тундренных юкагиров), вагирэл - название рода тундренных юкагиров, вадул – здешний, свой. По нему самоназвание юкагиров вадул и название юкагирского рода Вагариил , Вагирэл связаны с эвенкийским родовым названием Вакувагир – в прошлом, по их рассказам, они жили около Байкала и Ангары. Имеется гидроним Менкере – правый приток Лены близ Жиганска [Бурыкин, 2006. C. 181]. Таким образом, неожиданно название вакарай , отождествляемое с именем мекритов – бекри , связывается с предками юкагиров.
Абульгази меркитов обозначал под именем маркатов. Еще из труда И. Маркварта известно, что к тюркам принадлежит также племя маурка, именуемое кун . Они ушли из Китая, поскольку были вынуждены оставить свои главные становища из-за нехватки земли.
Насчет самоназвания кунов – марка , И. Маркварт сомневался, что оно как-то связано с монгольским этнонимом «меркит», так как в нем имеется палатальный гласный [Маркварт, 1914].
-
В. Ф. Минорский отмечал, что в арабских источниках упоминается племя марка: по его мнению, данное название у тюркоязычных народов встречается только в Якутии, где в долине Туймаада есть местность Марха [Minorsky, 1936]. Действительно, в бассейне Лены и Вилюя широко встречается топоним юкагирского происхождения Марха (юкагир. Морхэ(нг) – береза) [Бурыкин, 2006]. Следовательно, этноним марка также неожиданно выводит нас на юкагиров.
Согласно В. Ф. Минорскому, куны были родом монгольского Марке (Marqa), упомянутого у Ауфи; они упоминаются в связи с великим переселением племен в начале
XI в. [Minorsky, 1936]. Интересным представляется отождествление кунов, т. е. маркатов, с курыканами [Яйленко, 1987. С. 153]. Таким образом, меркиты связываются и с племенем кунов (марка) – одной из составных частей половецкого объединения.
Часть меркитов, спасаясь от Чингисхана, через Баргузин и Верхнюю Лену могла попасть в недоступные для монголов северные пределы. Так, мотив бегства знаменитого удальца со своей родины, преследуемого грозным царем за проступки, к тому же живущего на новой родине в постоянном страхе перед возможным приходом преследователей, глубоко запечатлен в якутских легендах о первом родоначальнике Омогое. Однако с Омогоем в фольклоре саха связан только первый этап заселения Средней Лены скотоводами – топонимика и археология края свидетельствуют о возможности монголоязычия первых пришельцев, позднее ассимилированных новой тюркской волной [Гоголев, 1993].
Мифологический образ Омогоя, прибывшего на Среднюю Лену из-за преследования грозным царем за воровство, хорошо связывается с незадачливым женихом из племени меркитов Чильгир-Боко, бежавшим в страхе в неизвестном направлении от Темучжина, требовавшего возмездия за похищение своей жены Бортэ [Ушницкий, 2004]. Другой родоначальник саха Эллэй, с которым связывают тюркоязычие этноса, бежит с отцом через безводные пустыни в результате преследования предков саха монголами и каким-то безумным царем по обвинению в конокрадстве [Ксенофонтов, 1977]. В этой связи важно отметить, что первые ученые, исследовавшие якутские предания о собственном происхождении, связывали приход саха на Среднюю Лену с борьбой с Чингисханом, в результате чего они были загнаны в эти труднодоступные, необитаемые края [Миллер, 1937].
Рашид-ад-дин меркитов считает древним монгольским племенем, хотя они не перечисляются среди собственно монгольских племен – потомков Борте-Чино и Гоа-Марал. Западно-европейские авторы XIII в. говорят о наличии четырех монгольских племен: йека-монгал, су-монгал, «другой же [народ] именуется меркит, а четвертый – мекрит. И все эти народы имели сходную внешность и один язык, хотя между ними и было разделение по провинциям и правителям» [Карпини, 1997. C. 43]. По его информации, Чингис сначала сразился с меркитами, страна которых была расположена возле земли татар, их также подчинил себе войною. После этого, он сразился против мекритов и их также покорил [Карпини, 1997. C. 44].
Пелльо и Пейнтер видели в этих мекритах кераитов. При этом они исходят из того, что, согласно Вильгельму Рубруку, Унк правил народом, именовавшимся крит и меркит. Отсюда делается вывод, что народ crit (мекриты) есть кераиты. Следовательно, мекриты, возможно, появились в результате обьединения кереитов и меркитов. Д. Поспеловский, который берет за основу сведения Марко Поло, считает, что мекриты – это большое племя, занимавшее земли юго-восточнее Байкала, и что францисканцы разграничивают мекритов и меркитов не только терминологически, но и территориально. Надо напомнить, что, по Марко Поло, мекриты занимались оленеводством и охотничьим промыслом. М. П. Алексеев отождествлял мекритов с тунгусами. По А. Г. Юрченко, историко-этнографической загадкой является то обстоятельство, что в местности Баргу, куда, согласно Сокровенному сказанию монголов, бегут меркиты, до них обитали лесные племена мекритов – оленеводов [Юрченко, 2002. C. 158–160]. Вся проблема заключается в том, что меркиты могли уйти в страну оленных мекритов, т. е. в Якутию. Носителей этнонимов мекрит, вокарай, удуит или увас-меркит можно отнести к осколкам древних мохэ.
Согласно Рашид-ад-дину, меркиты и мекриты являются одним и тем же этносом: «Их также называют племенем удуит, хотя некоторая часть монголов называет меркитов мекритами, смысл обоих (названий) один и тот же» [Рашид-ад-дин, 1952.
-
C. 114].
Меркиты-калмыки издавна входят в Эркетеневский улус Калмыцкого ханства, и в конце XIX в. здесь сохранились два аймака меркитов: хо-меркит и ики-меркит [Авляев, 2002. C. 106–108]. Слово хо – благородный, возможно, связано с названием хоас-мер-китов, возводимым к тотемному обозначению лебедя – куба. Калмыки в начале ХVIII в. рассказывали Г. Ф. Миллеру об упорной борьбе своих предков с Чингисханом под руководством вождя Тохабеги-хана [Миллер, 1937. C. 179]. Калмыцкие меркиты считали себя находящимися под особым покровительством самого «Лу» – дракона, так как его спас и помог в постигшем его несчастье представитель меркитов [Авляев, 2002. C. 106–108]. Интересно, что, по данным Рашид-ад-дина, монгольские урянкаты кричали во время грома и молнии [Рашид-ад-дин, 1952. С. 156]. По гипотезе С. М. Ахинжанова, хи, или уранхайцы, были народом дракона [Ахинжанов, 1989. C. 146]. Поверие о том, что молния исходит из некоего животного, подобного дракону, существовало и среди монголов [Рашид-ад-дин, 1952. C. 156]. Следовательно, калмыцкие меркиты могут иметь монгольское происхождение, хотя выкрикивание во время грозы и было урянхайским обычаем.
Мукрины, или мекри (бекри), обнаруживаются и в Уйгуристане, куда они проникли еще в глубокой древности. После распада державы Таншихая возникла «Западная сяньбийская орда», состоявшая из дружин, оставшихся на завоеванной территории. Сяньбийцы включали всех покоренных в свои войска, поэтому западных и восточных «мохэ» следует считать народом одного происхождения [Гумилев, 1961].
Это племя можно найти в составе тюргешей в тесном соседстве с родами согэ и алишэ. В исторической литературе по поводу «мукри» высказано два мнения. Маркварт отождествлял их с меркитами. По Л. Н. Гумилеву, мукри не могут быть меркитами потому, что перестановка согласных здесь ничем не оправдана, к тому же меркитов нельзя назвать народом, близким к Чаньани-Таугаст. Э. Шаванн полагает, что «мукри» – это приамурский народ тунгусского племени, впоследствии называемый китайцами «мохэ» [Гумилев, 1993. C. 342]. К тому же меркиты не были близки к сяньбийцам-тоба ни этнически, ни территориально.
В источнике XIII в. в Восточном Туркестане зафиксированы «мукри». Рашид-ад-дин сообщает о них следующее: «Племя бекрин, их также называют мекрин. Жилище их находится в стране Уйгуристан, в крепких горах. Они не монголы и не уйгуры» [Рашид-ад-дин, 1952. C. 149]. Эти мекрины были хорошими ходоками по горам – скалолазами (киачи). Это войско составляло одну войсковую тысячу (хазарэ) [Там же. C. 70].
В монгольскую эпоху область мукринов составляла удел Хайду, внука Угэдэя, и затем, по-видимому, вошла в Чагатайский улус. Когда власть чагатайских ханов пала и в степи организовывался узбекский племенной союз, в числе вошедших в него племен были и мукрины [Грумм-Гржимайло, 1926. C. 513]. В свое время Хулагу и его преемники взяли в Персию значительное число тянь-шанских мекритов как людей, способных в горной войне. В сочинении Низам-ад-дин Шами «Книга побед» имеются сведения о людях из племени мекритов, оказавших огромные услуги в завоевании Тимуром горных крепостей и башен Кавказа [Золотая Орда…, 2003. C. 333].
Этноним мекри (бекри) следует связывать с мукринами – потомками древних мохэ (мукрин считается санскритской транскрипцией имени мохэ). В древнетюркских текстах можно встретить обозначение страны Бокли. Обычно считается, что под этим названием древние тюрки знали древнекорейское царство Бохай (мохэ), или Когуре. С. Е. Малов переводит так: «Из страны солнечного восхода (пришел) народ степи Боклийской». В подлиннике Бокли – col ig il, Col (монг.-тюрк.) – суша, безводная пустыня [Малов, 1951. C. 36]. Бокли по звучанию совпадает с названием мукри (мохэ) [Гумилев, 1993. C. 341]. Обозначение «боклийские степняки» представляется более удобным для милиге-меркитов – жителей Забайкалья.
В китайских названиях «уцзи» и «мохэ», корейских «мульгиль» и «мальгаль», тюркском «муглиг», санскритском «мукри» Э. В. Шавкунов видит различные варианты одного и того же имени, реконструированного как «монголи». Следовательно, через корейское мульгиль , которое представляется древним китайским прочтением этнонима мохэ , можно прийти к монголам [Шавкунов, 1968. C. 29]. Еще Н. Я. Бичурин предполагал, что свое имя монголы могли позаимствовать от хэйшуй мохэ [Бичурин, 1953. C. 276].
Е. П. Лебедевой в списках наименований маньчжурских и родственных им племен были собраны многочисленные свидетельства о бытовании этнонима монгол в их этнической среде: монголчжи, монгоро, монголо, монгочо, монгодза, монго, маньго, монгичо, маньгя и т. п. В названиях ульчских и нанайских селений очень часто встречается слово монголи , а в маньчжурских – мангкари [Шавкунов, 1968. C. 28]. Исходя из этого можно предполагать тунгусоязычие древних монголов или переход части тунгусоязычных мохэ на язык шивэев.
По данным «Цзинь го чжи» (в переводе В. П. Васильева), датани (монголы Темучина) были с чжурчжэнями «одного рода, потому как те, и другие потомки мохэсцев». Таким образом, по В. П. Васильеву, монголы вышли из восточной страны – Маньчжурии [Кызласов, 1992. С. 149].
Гипотеза Э. В. Шавкунова, отождествляющая малгалей корейских летописей с мохэсцами в китайских источниках, при проверке оказывается крайне спорной. Впервые сведения о племенах мохэ начинают проникать в Китай в IV–V вв., и вполне очевидно, что упомянутые в Самгук саги мальгаль не имеют к мохэ никакого отношения. В рассматриваемое время этнонима мальгаль (мохэ) еще не было, он возникает только в период правления китайских династий Суй и Тан [Шавкунов, 1968. C. 26].
В этой связи хотелось бы привести любопытный факт: бурятская традиция связывает памятники курумчинской культуры с легендарным народом «хара монгол». Это название в свете вышесказанного представляется калькой с китайского названия народа сахалянь , или хэйшуй мохэ (черноречные). Однако черноречных мохэ принято считать жителями Амура. Поэтому важны свидетельства антропологов о возможности генетического родства курумчинцев с народами Дальнего Востока, т. е. с сахалянь-мохэ. Так, по их выводам, носители курумчинской культуры оказались близки народам Амура - ульчам и негидальцам [Бураев, 2005. С. 211]. Б. Б. Дашибалов на основе археологических материалов сделал вывод о близости носителей курумчинской культуры к населению Дальнего Востока, к культуре Маньчжурии и Кореи, где в то время жили племена мохэ. Показательно, что этот бурятский ученый связывает курумчинцев с монголоязычными хори-шивеями [Дашибалов, 2003. C. 92-95].
Обнаруживаемая связь имени меркитов с этнонимом монгол показывает многокомпонентность средневековых монголов, предполагает, что в их этногенезе непосредственное участие могли принимать и загадочные мохэ. В итоге меркитов можно отнести к потомкам мохэ-мукринов, попавших под мощное влияние тюрок, потом монголоязычных этносов. Мохэсцы, следуя китайской традиции, считаются предками чжурчжэней. Что касается тунгусов, то на основе изучения большой краниологической серии Троицкого могильника антропологи пришли к мнению о том, что мохэские племена Амура не являются предками того или иного современного тунгусоязычного народа. Ими был сделан вывод, что мохэские племена участвовали в формировании нанайцев, ульчей и удэгейцев, но в процессе этногенеза эвенков и эвенов прямого участия не принимали [Алексеев, 1996. С. 42].
Поэтому можно достаточно определенно заявить, что этнонимы мекрит и меркит , как мы попытались показать, восходят к словам с различным значением. Племя меркит получило свое имя от орла-беркута, это название также производится от обозначения меткого охотника - Мэргэна. Еще в китайских хрониках меркиты были известны как древнетюркское племя милиге. Обитавшие в Восточном Туркестане мукрины соотносятся с мохэ, их поздние потомки -племя бекрин; они же упоминаются во времена Тимура как горцы-мекриты. Упоминаемые Марком Поло оленные мекриты отождествляются с вокараями, название которых можно связать с юкагирским словом вагарииль - предок, родоначальник. Следовательно, оленные мекриты связываются с праюкагирами. Наличие конных мекритов в сообщении Марко Поло предполагает переход праюкагирских групп к скотоводству и на тюрко-монгольские языки.
Таким образом, становится вполне определенным вывод о том, что меркиты, мекриты и мекрины имеют между собой определенную этническую связь. Их предками, вероятно, являются мохэ - племя, считающееся по своему этническому происхождению тунгусо-маньчжурским. Принято считать, что в Восточный Туркестан мекрины попали в результате походов Таньшихая. Присутствие милиге-меркитов в Саяно-Алтае предполагает наличие в древности широкого мохэского круга племен - от Кореи и Приморья до Байкала. Исходя из наличия оленных мекритов в сообщении Марко Поло, их вполне можно отождествить с древними тунгусами. Однако их загадочная, еще не вполне понятная связь с самодийцами и юкагирами позволяет связывать меркитов-мекритов и с уральскими народами. Постольку в Танскую эпоху рыболовы и охотники милиге-меркиты были представлены как одно из племен древних тюрок, то они оказались отуреченными еще в древности. К тому же антропонимы и топонимы меркитов Забайкалья предполагают их этническое родство не только с этническими предками калмыков и бурятов, но и тюркоязычных саха. Этимологическая связь имени меркитов, возводимых к мохэ, с этнонимом монгол через корейское обозначение мохэ – мальгаль, создает целый ряд сложных вопросов по выяснению этнической истории народов Дальнего Востока и Центральной Азии, решить которые еще предстоит.
DISAPPEARED TRIBE OF THE MERKITS (MEKRITS): TO THE PROBLEM OF THEIR ORIGIN AND DESCENDANTS