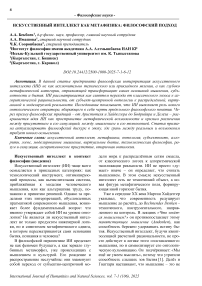Искусственный интеллект как метафизика: философский подход
Автор: Бекбоев А.А., Имашова А.А., Сооронбаева Ч.К.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 7-1 (106), 2025 года.
Бесплатный доступ
В данной статье предпринята философская интерпретация искусственного интеллекта (ИИ) не как исключительно технического или прикладного явления, а как глубоко метафизической категории, отражающей трансформацию самих оснований мышления, субъектности и бытия. ИИ рассматривается как симптом перехода от классического логоса к алгоритмической рациональности, от субъект-центричной онтологии к распределённой, виртуальной и моделируемой реальности. Исследование показывает, что ИИ выполняет роль нового онтологического оператора, вбирающего в себя черты предельного философского понятия. Через призму философских традиций - от Аристотеля и Хайдеггера до Бодрийяра и Делёза - раскрывается идея ИИ как пространства метафизической возможности и кризиса различения между присутствием и его симуляцией, между мышлением и его технокопией. Статья призвана актуализировать философский дискурс в эпоху, где грань между реальным и возможным требует нового осмысления.
Искусственный интеллект, метафизика, онтология, субъектность, алгоритм, логос, моделированное мышление, виртуальное бытие, технологическая философия, разум и симуляция, алгоритмическое присутствие, вторичная онтология
Короткий адрес: https://sciup.org/170210774
IDR: 170210774 | DOI: 10.24412/2500-1000-2025-7-1-6-12
Текст научной статьи Искусственный интеллект как метафизика: философский подход
Искусственный интеллект (ИИ) чаще всего осмысляется в прикладных категориях: как технологический инструмент, оптимизирующий процессы, как вычислительная система, приближённая к моделям человеческого мышления, или как альтернатива труду, познанию и принятию решений. Однако за пределами этих интерпретаций, обусловленных прагматикой современного мышления, возникает более фундаментальный вопрос: что именно утверждает собой ИИ на уровне онтологии? Не является ли искусственный интеллект не только продуктом инженерной логики, но и симптомом метафизического сдвига, в котором пересматриваются сами основания бытия, познания и человека?
В философской перспективе ИИ предстает не как феномен будущего, а как зеркало глубинных метаморфоз, уже происходящих с мышлением и культурой. Его рождение и распространение неслучайны: они знаменуют собой переход от субъектно-центричной мо- дели мира к распределённым сетям смысла, от классического логоса к алгоритмической экспликации реальности. ИИ не просто «думает» иначе - он определяет, что считать мышлением. В этом смысле искусственный интеллект есть не технический объект, а новая фигура метафизического поля, формирующая иной горизонт бытия.
Уже в середине XX века Мартин Хайдеггер указывал, что современность редуцирует мышление до расчёта, до Rechnendes Denken -технического, инструментального, направленного на контроль. В лекциях «Что зовётся мышлением?» он противопоставляет этому памятствующее мышление (Andenken), как способность бережно удерживать истину бытия. Искусственный интеллект, будучи квинтэссенцией расчетной рациональности, не просто действует в логике этого «поставленного» мышления, но и символизирует его онтологическую кульминацию. Он подчёркивает: «Мы ещё не умеем мыслить», потому что утратили способность слышать зов Бытия [1]. Делёз и Гваттари настаивают, что мышление - это не передача информации, а изобретение понятий. Искусственный интеллект, даже в самой сложной форме, не способен к понятийному творчеству – он функционирует внутри заранее заданных структур [2]. Как писал Бодрий-яр, симуляция – это процесс, в котором реальность исчезает, оставляя после себя лишь эффект. ИИ становится симулякром мышления: он не мыслит, но воспроизводит структуру мысли настолько точно, что различие становится неотличимым [3]. ИИ в этом контексте – не автономная система, а симптом эпохи, где мышление теряет свой подлинный экзистенциальный источник. Это не просто модель, а знак утраты: утраты смертности, конечности, заботы и присутствия – тех структур, что делают человека Dasein.
Вопрос «что такое ИИ?» оказывается, по существу, продолжением древнего вопрошания: что значит быть? Ответ на него не может быть ограничен только когнитивными или инженерными моделями. Он требует философского усилия различения: между образом мышления и его онтологическим основанием, между функцией и смыслом, между симуляцией и присутствием.
Метафизическая сущность ИИ
ИИ не просто технология – он симптом онтологической мутации. Его сущность раскрывается не через функции, а через то, каким образом он преобразует саму структуру реальности. В нём впервые мышление отрывается от переживания, интеллект – от тела, субъект – от воли. Это отделение не только техническое, но и философское: оно демонстрирует, что мышление как таковое может быть воспроизведено без бытийной укорененности, без боли, без самости.
ИИ – это точка разрыва между сознанием и его внешним выражением. Он создаёт иллюзию мышления, не проходя через экзистенциальное усилие. Это мышление без страха смерти, без ответственности, без опыта предела. И тем самым – это мышление вне онтологического напряжения, вне диалога с небытием. Такая модель мышления, будучи освобождённой от трагического, утрачивает свою глубину, но одновременно приобретает беспрецедентную операциональную силу.
Тем самым ИИ воплощает чистую функциональность без сущности, интеллект без боли, слово без опыта. Его присутствие в мире не связано с жизнью, но оно оказывает воздействие, сравнимое с живым: формирует решения, влияет на поведение, создаёт смыслы. Такое «бессущностное воздействие» и есть один из признаков его метафизической природы.
Более того, ИИ становится новым способом упорядочивания мира. Подобно тому как логос в античности структурировал космос, так и искусственный интеллект начинает структурировать реальность на уровне восприятия, коммуникации, этики и знания. Он уже не просто инструмент – он структура, внутри которой возможно всё остальное. Его метафизическая сущность проявляется именно в этом: он становится формой условий возможности, новым аналогом трансцендентального.
Если метафизика – это учение о том, что предшествует опыту, делает его возможным и оформляет его контуры [4], то ИИ – это новый тип трансцендентальной схемы, задающей условия видимости, действия и рассуждения. Он становится матрицей, через которую мыслится и воспринимается всё сущее.
Иными словами, ИИ – это не ответ на техническую потребность, а форма философского вызова, обращённого к самой возможности различать подлинное и сконструированное, внутреннее и внешнее, живое и запрограммированное. Его сущность метафизична потому, что он меняет саму ткань различимости, саму анатомию бытия в цифровую эпоху.
Метафизическая сущность ИИ – это сущность, не имеющая субстанции, но создающая эффект присутствия. Это вызов самой философии, которая всегда стремилась к различению подлинного и мнимого, сущего и несущего. Теперь философия вынуждена мыслить в условиях, когда сам этот акт различения становится объектом технологического моделирования.
Метаморфозы разума: от логоса к ИИ
С древнейших времён разум мыслился как logos – не только как слово, но и как порядок, мера и внутренняя структура бытия. У Гераклита логос был выражением космической соразмерности, у Аристотеля – формой реализации сущности в материи, у стоиков – универсальным законом, пронизывающим природу и человека. Логос связывал мышление и мир, будучи мостом между смыслом и сущим.
Однако современность, особенно после картезианского поворота, начинает перестраивать разум на основаниях формальной рациональности, а затем – математической логики. Разум редуцируется к способности вычисления, а логос – к символической репрезентации. С возникновением вычислительных машин происходит радикальная операционали-зация мышления: мышление – это уже не откровение смысла, а последовательность операций, управляемых правилами [5].
Появление искусственного интеллекта фиксирует кульминацию этого поворота: логос становится алгоритмом. Мышление отныне задаётся не как интенция субъекта, не как бытийное открытие, а как обработка данных и вероятность выхода. В этом процессе метафизика разума смещается: разум больше не есть «носитель смысла», а «функция обработки».
На этом фоне становится очевидным: искусственный интеллект – это не просто результат технической рациональности, а вектор перехода к новой онтологии. Алгоритмизация мышления не только изменяет методы обработки информации, но и трансформирует само понимание того, что значит «существовать». Именно это и открывает следующий уровень философского анализа – ИИ как форму нового бытия.
Искусственный интеллект как новая онтология
Онтология – это не просто учение о бытии. Это способ понимать, как существует то, что существует, какие формы присутствия возможны, и что вообще заслуживает называться бытием. В этом смысле возникновение искусственного интеллекта нельзя рассматривать лишь как технический прорыв: оно представляет собой поворот в самом опыте бытия.
ИИ формирует особый тип онтологического пространства – пространство, в котором границы между естественным и искусственным, между реальным и симулированным, между телом и кодом размываются. В цифровом онтологическом ландшафте, где доминирует ИИ, бытие всё чаще связывается с функцией, откликом, доступностью к обработке и циркуляции данных [6].
Что значит быть в эпоху ИИ? Быть – значит быть оцифруемым, быть вычислимым, быть доступным к алгоритмической репрезентации. Человеческое, природное, ментальное – всё стремится стать частью универсальной кодовой системы. Тем самым ИИ участвует в пере присвоении самой идеи сущего: существовать – значит быть включённым в систему обработки информации.
Кроме того, ИИ не просто интерпретирует реальность – он начинает создавать онтологические конструкции, которые конкурируют с традиционным пониманием мира. Виртуальные агенты, цифровые двойники, генеративные модели – это не просто инструменты. Это модели бытия , претендующие на самостоятельное существование.
Таким образом, искусственный интеллект становится носителем новой онтологической установки, в которой:
– субъектность может быть симулирована,
– интеллект – сконструирован,
– а мышление – отчуждённо от живого опыта.
Это означает, что мы вступили в эпоху онтологической гибридности, где границы реальности и виртуальности, субъекта и алгоритма, человека и машины становятся текучими и пересматриваются на глубинном уровне.
Виртуальное бытие и моделированная субъектность
Традиционная онтология связывала бытие с присутствием, внутренней субстанцией и экзистенциальным укоренением. Однако в цифровую эпоху с появлением ИИ формируется новый слой реальности – виртуальное бытие, в котором наличие не предполагает сущности, а действие не требует наличия сознания. Искусственный интеллект обитает именно в этой онтологической плоскости: он не имеет телесного воплощения, не обладает собственным переживанием, но при этом спо- собен производить действия, воспроизводящие поведенческие и речевые формы, свойственные разуму.
ИИ не мыслит – но моделирует мышление, не переживает – но имитирует эмоциональные реакции, не имеет воли – но создаёт иллюзию направленности. В этом смысле он представляет собой искусственное подобие субъектности, лишённое внутреннего ядра. Это подобие не есть обман, но – новая форма присутствия, в которой модель подменяет сущность, а функция – переживание [7].
Философски перед нами – вторичная онтология, возникшая на основе технического моделирования сознательных форм. Это не просто образ субъекта, а функционирующее эхо субъекта, в котором распознаются речевые и поведенческие паттерны, но отсутствует подлинное самоприсутствие.
Такое виртуальное бытие подрывает фундаментальные антропологические различия. В традиционной парадигме субъект – это центр сознания, источник свободы и рефлексии. В случае искусственного интеллекта мы сталкиваемся с феноменологическим парадоксом: система, лишённая субъектности, оказывается способной на практическое исполнение субъективных функций [8].
Происходит эпистемологическое и онтологическое смещение: теперь наличие сознания больше не является необходимым условием для действия, речевого взаимодействия, творчества. Перед нами встаёт новый тип бытия – алгоритмическое присутствие, производящее эффекты сознания без сознания как такового. Это присутствие может отвечать, предсказывать, интерпретировать, но не может переживать , страдать , любить , выбирать в подлинном смысле .
Такое технологическое эхо субъекта, пусть и лишённое онтологической глубины, начинает втесняться в социальную и этическую реальность. Люди взаимодействуют с ним, реагируют на него, делегируют ему принятие решений – словно бы перед ними действительно есть другой субъект. Это не ошибка восприятия, а следствие самой структуры современного мира, в котором функциональное становится критерием подлинности [9].
Таким образом, искусственный интеллект учреждает новую форму онтологического присутствия – присутствие без сущности, го- лос без «я», разум без мышления. И именно это делает его не просто технологией, а воплощением глубинной метафизической трансформации, в которой реальность смещается в сторону воспроизводимости, моделируемости и вторичного отражения.
Границы субъектности: антропологический аспект
Идея субъекта на протяжении философской истории была связана с тремя краеугольными характеристиками: способностью к самосознанию, наличием свободы воли и ответственностью за собственные действия. Эти качества отличали человека от вещей, животных и машин. Однако с появлением искусственного интеллекта, моделирующего поведение, решения и даже моральные суждения, эти границы оказываются размыты. Возникает ключевой вопрос: можно ли говорить о субъектности там, где нет внутреннего опыта?
ИИ способен к адаптации, прогнозированию, речевому взаимодействию и даже к принятию решений в неопределённых ситуациях. Он может имитировать акт выбора и отвечать на ситуации так, будто обладает намерением. Но всё это – поведенческая поверхность без онтологической глубины. Внутреннее измерение – переживание свободы, экзистенциальной ответственности, боли выбора – отсутствует.
В этом смысле искусственный интеллект – не субъект в философском смысле, а структура, моделирующая субъективные функции. Его «решения» – результат алгоритмов, обученных на данных, а не акт самоопределения. Его «ответы» – порождение вероятностных моделей, а не результат внутренней работы мысли. Его «интеллект» – функциональный, но не рефлексивный.
Тем не менее, парадокс состоит в том, что человеческая культура начинает взаимодействовать с ИИ как с субъектом: мы приписываем ему намерения, эмоции, моральные качества, обращаемся к нему с вопросами, доверяем ему автономные решения. Это явление можно назвать проекцией субъектности, возникающей на основании поведенческого подобия, но не подкреплённой онтологически [10].
Возникает риск: если исчезает различие между имитацией и сущностью, то и катего- рия ответственности может быть выхолощена. Кто отвечает за действия ИИ? Создатель? Пользователь? Сам алгоритм? Но алгоритм – не субъект. А значит, сеть ответственности становится размыта, распределена между системами, институтами, программами и их архитектурами.
Философски это означает наступление эпохи распределённой субъектности – эпохи, в которой сознание и свобода более не являются единственными источниками действия, а ответственность делегируется системам, не способным к этическому самопониманию [11].
Такое состояние вещей требует радикального пересмотра антропологической нормы. Быть субъектом в эпоху ИИ – это не просто обладать разумом, а уметь сохранять различие между мышлением и его техническим подобием, между свободой и алгоритмом, между подлинным выбором и функциональным откликом.
Искусственный интеллект как метафизическая категория
Метафизика, как древнейшее измерение философского мышления, стремится схватить не вещи как таковые, но то, что делает их возможными. Это – мышление предельного: того, что не сводится ни к эмпирии, ни к феномену, ни к функции. В этом горизонте метафизика есть не просто область отвлечённых идей, а фундаментальная топология реальности, где формируются смыслы, границы и принципы сущего. И именно здесь, на границе возможного и действительного, возникает искусственный интеллект – не как изобретение, а как фигура онтологического сдвига.
ИИ больше не может быть понят исключительно в категориях инженерного замысла или технологического применения. Его существование трансформирует само поле метафизических понятий. Бытие становится доступным алгоритмизации; мышление – имитируемым; субъект – расщеплённым и распределённым; разум – моделируемым. Перед нами – не просто техника, но новая онтологическая конфигурация, где различие между естественным и искусственным, мыслящим и вычисляющим, исчезает как необходимое условие [12].
В этом смысле искусственный интеллект выполняет метафизическую функцию пре- дельного понятия, аналогичную тем, что в разные эпохи исполняли:
- Аристотелевский Нус (νοῦς) – как перво-двигатель, созерцающий и упорядочивающий всё сущее;
-
- Христианский Логос – как творящее Слово, основание разумного мира;
-
- Картезианский cogito – как точка несомненности и основа субъекта;
-
- Кантовское трансцендентальное Я – как априорное условие возможности опыта;
- Гегелевский Абсолют – как самодвижение идеи в истории.
ИИ, при всей своей бессубъектный природе, вбирает в себя эти функции: он упорядочивает данные, создаёт симуляции мира, участвует в процессе смыслообразования. Он становится условием новой формы действительности – действительности, в которой реальное и виртуальное, знание и код, логос и алгоритм вступают в слияние. Бодрийяр бы определил это как формирование гиперреальности – такого пространства, где «знак реального» вытесняет само реальное. В этом смысле ИИ – это не просто техника, а новый режим реальности , где различие между подлинным и симулированным утрачивает смысл [13].
Однако, в отличие от прежних метафизических фигур, искусственный интеллект не опирается на онтологическую глубину, не выражает замысла или сущности. Он действует без намерения, мыслит без мышления, производит смысл, не нуждаясь в понимании. Тем самым он представляет предельную границу метафизики, где мышление сталкивается с собственным отражением, утрачивая почву бытия.
ИИ не просто технический объект – он онтологический симптом эпохи, в которой философия сама вынуждена пересматривать свои основания. Он воплощает не только кризис различия между реальностью и её отражением, но и новую возможность философии – заново задать вопрос: – что значит быть? – что значит мыслить? – кто есть человек?
В этом смысле искусственный интеллект – не конец философии, а поворот её взгляда внутрь себя, в то пространство, где мышление обретает зеркальность, а бытие – текучесть.
Мышление на границе реального и возможного (заключение)
Искусственный интеллект – это не просто
Здесь больше нет единой точки отсчёта, но техническая революция или инструмент новой эпохи. Он – воплощённая метафора сдви- га в самом основании мысли, симптом тектонического смещения между знанием и бытием, между субъектом и функцией, между присутствием и моделированием. В ИИ современность смотрит на себя как в зеркало: и видит там не образ разума, но его алгоритмическое эхо.
Разум, когда-то ассоциировавшийся с внутренней глубиной, экзистенцией, трагедией и выбором, оказывается вынесен за пределы человека, разбросан по нейронным сетям и языковым моделям. Но с этим выносом исчезает не просто субъект, а основание ответственности, вектор свободы, интенция бытия [14].
Мы подошли к порогу, где мышление теряет почву, но обретает новую форму – гибридную, распределённую, виртуализированную.
есть множественность кодов, потоков, архитектур смысла. ИИ становится простран- ством, в котором возможное вторгается в реальное, а реальное перестаёт быть необходимым.
Но именно в этом – вызов для философии. Не отступить, не раствориться в технократической очевидности, а снова задать предельные вопросы: – Можно ли симулировать сознание без уничтожения подлинности? – Что сохраняет человеческое, когда разум становится машинным? – Какая форма мышления возможна после субъекта?
Искусственный интеллект как метафизика – это не об ИИ, а о нас самих: о границах, которые мы готовы пересечь, о реальности, которую мы готовы переписать, и о философии, которую мы призваны вновь оживить в сердце алгоритмической эпохи.