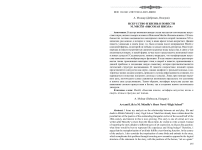Искусство и жизнь в повести М. Месёя "Высокая школа"
Автор: Молнар Ангелика
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Зарубежные литературы
Статья в выпуске: 1 (56), 2021 года.
Бесплатный доступ
В центре внимания автора статьи находится соотношение искусства и игры, жизни и смерти в повести Миклоша Месёя «Высокая школа». Об особенностях поэтики выдающегося венгерского писателя второй половины ХХ в. написано уже немало, и интерес к этому в наше время только возрастает. Данная повесть уникальна в своем роде, т.к. была создана после возвращения Месёя с соколиной фермы, на которой он побывал с целью написать репортаж. Вместо репортажа в повести встречаются указания на разные виды искусства, в связи с чем поднимается вопрос: в какой форме лучше всего представлять жизненный опыт и живых существ? Следовательно, можно утверждать, что метафоризация искусства выполняет текстообразующую функцию. В ходе нашего анализа рассматривается также тропеизация некоторых птиц и зверей в повести, примыкающая к данной проблеме и создающая новую семантику, которая противопоставляется логической структуре высказывания. В повести посредством позиций героев представляется «искусство как игра», однако конфликт с реальной жизнью, в которой все живое должно умереть, приводит к тупику рефлексивного сознания, что выражается в попытках построить легенды о соколах. Лишь при помощи языкового акта, поэтического слова становится возможным преодолеть это состояние и понять свое существование. Таким образом, метафоры искусства служат как выявлению личного присутствия в бытии, так и созданию нового поэтического дискурса.
Месёй, "высокая школа", метафоры искусства, жизнь и смерть, птицы и грызуны, акт письма
Короткий адрес: https://sciup.org/149135834
IDR: 149135834 | DOI: 10.24411/2072-9316-2021-00020
Текст научной статьи Искусство и жизнь в повести М. Месёя "Высокая школа"
Поэтика выдающегося венгерского писателя второй половины XX в. Миклоша Месёя не раз становилась предметом изучения [Gorozdi 2006; N.Toth 2006; Szirak 1998; Szollath 2018; Thomka 1995]. Однако аспекты, которым посвящена наша статья - а именно, соотношение искусства и игры, механизмы метафоризации с выходом на то, как писатель решает в своем произведении проблему жизни и смерти - до сих пор не привлекали в достаточной мере внимание исследователей. Постараемся восполнить этот пробел.
Лилик - скульптура - сокол
В повести М. Месёя «Высокая школа» [Meszoly 1985, русский перевод - Месей 1997] писатель (герой / рассказчик) уже до прибытия на опытную соколиную ферму старается представить фигуру заведующего Лилика, однако в начале знакомства оказывается, что определить ее почти невозможно из-за двойственности. Лицо Лилика словно «изваяно» (как скульптура), причем «из кости» (дословно с венгерского: «до кости выточенное лицо»), на котором растут «густые брови». Такая же противоречивость характеризует и его личность. Познание сущности Лилика означает для писателя сначала потребность подражания, затем разочарование либо пресыщенность, в результате которой он покидает ферму. Написание повести после получения жизненного опыта становится для ее субъекта также и познанием себя в зеркале другого героя.
Предметом наблюдения, а после и символизации являются два жилища заведующего фермой. В открытом доме все распахнуто, чтобы Лилик мог чувствовать свободу так же, как его соколы, и постоянно следить за ними. Стены покрыты его же рисунками птиц. Месёй создает уникальную метафору, обозначая этот продуваемый ветрами дом с помощью сочетания слов «крылья» и «тень» (szellos szarnyek). В русском тексте такое сближение птицы, дома и ветра, конечно, невозможно передать, поэтому и приводится слово «навес»; однако можно было бы более точно назвать другой, защищенный домик «кельей». Так определяется и степь, залитая светом солнечных лучей. Поражает новизна такого сближения, которое развертывается в тексте (см. ниже): ведь степь традиционно характеризуется как просторное, свободное пространство. Писатель также удивляется «крепостной» замкнутости и огражденности своего ночлега, который таким образом защищен от ливней. Итак, данная оппозиция домов скрывает

в себе двойственность фигуры Лилика. Ее раскрытию служат и другие метафоры искусства (скульптура и рисование).
К примеру, Лилик и его любимый в настоящий момент сокол-самка Виктория отправляются на охоту. В венгерском тексте слаженность совместной верховой езды человека и птицы метафорически проявлена так, словно сам наездник делает упругим свое тело, а сапсан прямо сидит на его руке, будто на насесте. Птица представлена как «торс» (см. рельеф), она «точеная» и такого цвета, как небо в солнечном цвете: у нее не голубые, а блестящие, пепельно-серые перья. Она словно срослась со своим хозяином в движении или неподвижности. Итак, уподобление скульптуре (и комплекс мотивов, связанных с ваянием) закреплено за образом сокольничего, однако оно относится и к героине - единственной женщине на ферме.
Тереза - скульптура - хорек
Тереза является душой фермы, т.к. она обслуживает людей и заботится о грызунах, являющихся кормом для соколов. Раньше она училась ваянию «в высшей школе» (см. другое значение «высокой школы»), где учитель называл ее скульптуры «дышащими», те. живыми. Но теперь это кажется Терезе глупостью, ибо на ферме она сталкивается с настоящей жизнью и смертью. В качестве иллюстрации для писателя она приводит пример смерти своего любимого хорька. Отметим, что эти хищные и игривые звери так же веками использовались для охоты, как и соколы. В этом качестве они представлены и в повести Месёя. Тереза изображает «на песке фигурку хорька» и спрашивает, «где она теперь»? Скульптуру она отождествляет с игрой, а затем «без всякого сожаления» стирает рисунок. Говорящий не выражает эксплицитно свое отношение к этому, только презентирует, как героиня своим движением (актом действия) уничтожает предмет творческого акта. Она так же безразлично относится к тому, что ее хомяки, за которыми она с особой заботой ухаживает, истребляются соколами. Самый непонятный для писателя поступок Терезы - когда она ловит суслика и гладит его в мешке с такой нежностью, будто не знает, что на другой день бросит его птицам на съедение.
Такая двойственность напоминает образ Лилика. Определить сущность Терезы также затруднительно для писателя, ибо личных вещей у нее нет, лишь атрибуты ее работы, так что героиня кажется «все более безличной». Когда она ничего не делает, то сама словно становится вещью. Вместе с тем Тереза представлена «плодовитой» и обычно в окружении растений: с мешком для травы на выпуклой талии. Спокойная и на первый взгляд от всего отстраненная, она сразу же обнаруживает нарушающую обычный порядок нехватку грызунов, воплощая тем самым равновесие.
В сарае грызунов такая же страшная вонь и сквозняк, как у голубей. Проволока и здесь символизирует рабство зверей, определяемых по их суетливому движению (ср. порхание птиц) и огнеподобным глазам, которые в темноте «мерцают, как огоньки карманных фонариков». Сравнения под- черкивают неприятный вид животных. Отрицательная характеристика, однако, подспудно превращается в их возвышение до жертв, как в случае голубей и ворон.
Среди грызунов также выстроена особая иерархия с точки зрения их полезности, как и среди птиц. В этом ракурсе интересно, что по приказу управленца Беранека нутрии подлежат лишь наблюдению. Вопреки тому, что ночью они не дают спать, как и соколы, нутрии точно так же пользуются особым статусом: имеют право жить. Тереза единственная, кого они принимают и кто может следовать по их подземным ходам. Ей нутрии даже снятся: во сне героиня боится их показать, чтобы они не стали жертвами, как и другие грызуны. Это говорит о том, что Тереза подсознательно обеспокоена судьбой зверей. Это тоже «высокая школа» - выживания, а не обучения соколов.
Итак, оба героя являются противоречивыми фигурами для писателя. Тереза представлена все время в окружении грызунов, которые сами становятся кормом, в то время как Лилик - среди птиц-хищников. Символически герои являются их повелителями: женщина - подземного мира, мужчина - небесного. Каждый из них относится как бережно, так и безразлично к животным. И оба в той или иной форме соотносятся с искусством, представленным в ракурсе проблематики жизни и смерти.
Лилик - рисунки - сапсан Диана
Тереза указывает писателю на рисунки Лилика, изображающие Диану, но не понимает характер вовлеченности мужчины в «соколиное» дело, того, что заставляет Лилика искать способы художественно выразить эти образы. Она не отвечает на вопрос, являются ли для заведующего его рисунки тоже игрой. Таким образом, искусство взаимосвязано с игрой, в то время как жизнь со смертью. Разрешение проблемы этого соотношения составляет главную задачу писателя в повести Месёя.
Лилик изображает птиц в «нарисованных рамках» (таких же нарядных, как и ремешки) на стене своего дома. В его комнате также есть чучело дикого гуся «с развернутыми крыльями». Оно словно воплощает заведующего соколиной фермой - человека с прозвищем птицы-добычи соколов (см. двойственность этого образа), однако отсылает также к подобному образу в «Чайке» А.П. Чехова. Герой же утешает себя в отсутствие своего лучшего сапсана Дианы, переводя на язык изобразительного искусства то, что видел и хотел бы еще раз увидеть в реальности, т.е. оживить легенду, когда-то успешно охотившуюся на цапель. Об изображенной Диане писатель, однако, говорит лишь как о «знаменитости», в то время как цапель называет «геройски обороняющимися». Героем оказывается не легендарный сапсан, а его противники - три защищающие свою жизнь птицы, которые выполняют «гарпунящее», в венгерском оригинале - буквально пронзающее движение (ср. резание). Между тем писатель оценивает поразительно живое искусство Лилика. Сокольничий словно оживляет рисунок, на котором луна освещает «самую динамичную часть картины»,
а тени сопоставляются с лезвием листьев осоки. Мотив «резания» пронизывает повесть в целом как акт действия, связывающий птиц и людей. В данном случае это проявляется и в искусстве.
Напомним в этой связи, как Лилик раскрасил на жестяной табличке перед входом на ферму голову сокола, а под ней - слова: «Запретная территория». Этот момент можно сопоставить с тем, как степные народы ставили охотничьи столбы с изображениями птиц. Однако надпись на табличке народ периодически искажает, протестуя так против «высокой школы» фермы.
Кроме того, следует обратить внимание на еще один эпизод в сюжете повести. По дороге в заповедник за птенцами Лилик и писатель забредают в горную деревню, которая представляет собой убогое, будто неживое место. Лилик предлагает оживить его посредством искусства, те. вместо «жестяного распятия с облупившейся краской» поставить изображение Дианы как египетского бога, чтобы ее почитали. Языческий бог в виде жестокой хищней птицы заменяет для героя жертвенный образ страдающего христианского сына бога. В древнем Египте Гор был представителем неба. Его правый глаз - солнце, левый глаз - луна, точки на перьях указывают на звездное небо, а широко раскрытые крылья - небо. Сокол становится воплощением и правителем всего мироздания. Эти мотивы (солнце, луна, небо) пронизывают текст повести в целом и подлежат особой метафори-зации в том числе и в связи с лучшим сапсаном Лилика - птицей Дианой, которой присвоено божественное имя.
Напомним, что Диана является в римской мифологии лунной богиней животных и охоты, а также покровительницей женщин и родов. Ее имя (диа - свет) восходит к кинжалу (см. нож - резать) и является синонимом лунного света. Диана не только девственница, но и амазонка-воин. Эту ее сторону демонстрирует жестокая месть Актэону превращенного в оленя и вскоре растерзанного его собственными собаками. Кроме света в тексте повести Месёя также реализуется и мотив разрывания как результата птичьей охоты. Помимо этого, проблема сотворения легенды о сапсане становится здесь ключевой.
Песня сокольничих
Так, рисунки Лилика словно оживают для писателя. В отличие от него, заведующий спит крепко и нагишом. Писателю же мешают спать соколы, обитающие вблизи дома, в акациевой роще, т.к. наводят на мысль создавать легенды о них. В полусне он путает крики птиц с клекотом Дианы, утверждая, что так «рождаются легенды». В этой связи приведем в пример описание вечера, когда писатель представляет свое видение ночи в комнате с изображениями птиц: луна плывет в небе, словно в озере, красные блики «пульсируют», словно молнии в грозе, а шеи цапель «изгибаются серпом, тянутся вверх».
При этом слышится эмоциональное пение сокольничих, сидящих за костром: передаются фразы, соответствующие их жизни, полной охоты и «воздушных боев», в виде песни, т.е. слов-метафор, относящихся к ис- кусству. Красный цвет огня определяет как закат солнца, так и лицо сокольничих: «пурпур солнца». Составляющие текста песни («лунный бархат», небо, бой, сокол, конь, пес) связаны с жизнью охотников: «соколы ведут отважный в небе бой, Мой верный конь и пес - всегда со мною». Пение оказывается отнюдь не романтическим действием, ибо воздух наполняет отвратительный запах сожженных в костре убитых жертв - птиц и зверей. Вид сгоревших перьев может символизировать бренность бытия и соотнесенность с Апокалипсисом четырех сокольничих на ферме во главе с Лиликом. В русском переводе вводится также значение раскаленного металла, в венгерском оригинале маркируется лишь блеск, лучи света от сгоревших перьев некогда живых птиц. Этот свет может обозначать и главный атрибут воскресающего после самосожжения Феникса.
Раскрывается главная проблема фермы: многие птицы не выдерживают дрессировку. Таким образом, «высокая школа» нелегко дается и самим соколам. А по приказу, поступающему сверху, вместо погибших птиц требуется похищать птенцов из гнезд. Это дело Беранек, воплощающий машинальный механизм власти, называет военным термином, «вербовкой». Он словно «призрачный» глава партии или бог - не виден, не имеет личности, но все подчиняются ему.
Писатель прерывает молчание сокольничих словом о Диане. Тема становится «камешком»-спасением от тяжелой тишины. Кроме того, тот факт, что писатель поселен в дом с рисунками Лилика о Диане, позволяет сокольничим раскрыться. Они высказываются критически о решениях администрации, не имеющих никакого отношения к настоящей жизни и приносящих лишь смерть. Сокольничие оживают и с радостью рассказывают писателю о Диане, об этом удивительном, трудно приручаемом диком сапсане. Диана истребляла вредных для рыбного хозяйства цапель и других птиц сама, «по своему разумению». Так она стала легендой.
Диана - легенда - божья коровка
Вечера отмечаются попытками писателя построить легенду о сапсане Диане и «проследить путь» птицы. При этом деятельность писателя в качестве наблюдателя и героя сопоставляется им с вненаходимостью автора, когда он смотрит на себя через «увеличительное стекло». Это метафорическое соотношение развертывается, когда писатель в воображении словно перевоплощается в пролетающую птицу, приняв на высоте ее точку зрения, а затем и мелкого насекомого - божьей коровки. Тем самым писатель переводит философскую проблему в творческий план: опасные легенды, опредмечиваемые «гигантскими взмахами крыльев сапсана», схватывают, «завораживают» его, как охотники свою добычу, и не позволяют по-своему, индивидуально относиться к теме и презентировать ее.
Крышка сундука метафорически отождествляется с «бескрайной степью» (ср. плоскость неба), вещи - с элементами природы (см. горы). Специфика поэтики Месёя - это бесконечное развертывание метафор, и, следовательно, вполне наглядно можно обозначить ее образом «степи». Вспом-
ним и «тупики» как «языки суши» среди разлитой воды - озера, которые могут представлять безысходность жизненного пути на уровне героя и препятствия к своему собственному слову на уровне субъекта дискурса. Если смотреть на божью коровку с точки зрения высоко парящей огромной Дианы - с позиции «высокой школы», то она - «красная крапинка», пятна которой не видны, однако ее движения, те. жизнь - явлены. По мере снижения птицы крапинка переименуется в «ноготь», который снова сближается с птицей, способной покрыть (раздавить?) «крохотное» насекомое.
Божья коровка считается также солнцем божьим. Предполагается, что она находится в тесных отношениях с Богом, передавая ему земные желания. Насекомое предупреждает людей об опасности и предсказывает их будущее или смерть. Однако в результате фантазийных измышлений писателя вместо этих традиционных значений божья коровка в повести означает, что жизнь мимолетна и живые существа - только ничтожные смертные, жертвы, которые легко могут быть уничтожены более крупными хищниками. К такому исходу приводит и оживление легенды.
Желание писателя воплотить легенду грозит ему такой же опасностью, как для Лилика, предпочитающего самостоятельность в выполнении задач и желающего найти птицу, равную своей Диане, в самой жизни. Таким образом, заведующий фермой старается возродить ее не только с помощью изобразительного искусства. При этом он не считается с жизнью других птиц: см. похищение птенцов, охота или ловля диких соколов, которые определяются посредством «военных» терминов.
Приманка - лунь - голубь
Подойдя к костру, заведующий фермой говорит о том, что он «повстречался с Дианой и та узнала его». Этим объясняется его предложение писателю съездить с ним на ловлю сапсана, напоминающего Диану. Характеристика птицы с помощью сравнений дает представление о самой Диане. Здесь клюв (для резания добычи) сближается с «горбатым лезвием топора», те. острым предметом, которым люди на ферме убивают (режут) птиц-жертв (например, голубей), чтобы кормить обучаемых соколов.
Лилик показывает писателю, как ставить ловушку для дикого сокола. При этом в его объяснении птица, которую ловят, сопоставляется с прикармливаемой рыбой. Это сравнение повторяется и в презентации фигуры охотящегося Лилика: им овладевает «голод», как и соколами. Размышления («слова») заведующего фермой об уловках по сохранению птицами своей жизни вызывает у писателя желание, чтобы он, подобно Лилику-охотнику, также пережил мучительное ожидание появления дикого сокола в лощине. Во время этого ожидания выявляется жестокий закон природы: сильный не только на охоте, но и при ловле привлекает и съедает слабого. Добыча летит навстречу хищнику, однако писатель хочет не убедиться в этом, а сам увидеть, те. воплотить легенду.
Лилик занимает свой вчерашний пост для слежки за птицей. Во второй засаде устраивается писатель, тоже зарываясь в землю. Он держит в своих руках черно-белого голубя в качестве приманки для сокола. Писатель испытывает пресыщение от своего положения, которое он определяет как «жертвенное». Жара и отсутствие воды размаривает как его, так и птицу-добычу. В результате его фигура сближается с голубем, который как бы смиряется со своей судьбой. Скорость пролетающего луня сопоставляется с «молнией». Птица сначала называется «тенью», затем «пятном», а в конце «камнем», который падает вниз со свистом. Эти метафоры присвоены и другим соколам в тексте повести. Говорящий анализирует себя как героя-актанта, детально описывает, как он выставляет приманку для луня, как голубь пытается вырваться, но он не дает птице спастись от верной смерти. Здесь вспоминается библейское противопоставление ястребов (луней) и голубей. Добыча луня - голубь, а писателя - лунь. Схваченная хищная птица замирает от страха, те. становится будто мертвой. Таким образом, устанавливаются параллели между человеком и птицей.
Писатель отпускает луня и не рассказывает Лилику об этом происшествии. Возможно, он не хочет выдать свое разочарование тем, что не мог поймать сокола, или же наступает перелом в нем: герой не может свыкнуться с постоянным испытанием смертью на его глазах и по его же вине. Для него этот случай - еще один опыт переосмысления потребности строить легенду. В отличие от него, Лилик успешно прогоняет пустельга от своего голубя и не теряет надежду на то, что ему как-нибудь удастся поймать новую Диану, т.е. возродить легенду.
Из сказанного выше следует, что если строить легенды, в которых человеку не суждено быть хищней птицей-богиней, то он остается одиноким и беззащитным - мелкой жертвой и добычей перед высшей силой: смертью. Преодолеть свое ничтожество - вырваться из рабства - получается, лишь вырвавшись на свободу, где существует выбор. Это можно понимать и как выход из оков военного дискурса сокольничих или экзистенциального дискурса, которым выражена безвыходная ситуация в степи, и как возникновение потребности нового слова. Преодоление кризиса вызывает еще одно следствие - грозу и смерть птиц.
Соколы - гроза-потоп - рассказ
Как отмечалось, в степи происходит необычное событие: буря, следствием которой является смерть соколов. Гроза заливает ферму, однако акцентируется не благотворное воздействие воды на солончак, который ее «сбрасывает с себя, подобно обветренной коже». Месёй создает ряд новых метафор искусства в презентации акта спасения во время грозы: к примеру, «обнаженный торс» Лилика «белел». Это снова связывает образ со скульптурой и получает развитие в тексте. Быстрые и беспорядочные движения людей, спасающих соколов от потопа, сближаются не только с «мечущимися бликами» молний, но и с «барельефом» - активной скульптурой. Сокольничие торопятся спасти соколов, потопленных водой, и писатель считает необходимым помочь в их «мужественной» работе, по сравнению с которой вещи не имеют значения. Согласно его же сравне-
нию, он начинает переживать за жизнь соколов и осознает взаимосвязь своей жизни и жизни птиц.
Писателя потрясает, что во время грозы умирает чеглок, который не смог освоить учения - пройти «школу», оставаясь «ребенком»: он пытался освободиться, однако запутался в своем поводке. Лилику не удается оживить его, сокольничий забывает о нем, как о не нужной больше вещи. На другой день писатель задает в этой связи вопрос: почему соколы не улетают на свободу? По мнению Лилика, ответ состоит не в насильственном рабстве, а в приспособлении к «порядку», означающему жизнь как для птиц, так и для людей. Чеглок вытребовал себе слишком длинный ремешок, обеспечивший ему сравнительную свободу, что и привело его к смерти. Прирученные соколы уже не способны больше жить на свободе. Взаимозависимость человека и птицы («общность судеб») метафоризует-ся как «поводок».
В отличие от чеглока, другие соколы ждут своих хозяев, будучи уверены в том, что их спасут. Кажущаяся безысходность ситуации переплетается с надеждой на выживание. В домике сокольничих (в такой же «келье») птицы чувствуют себя в безопасности, несмотря на то, что комната воспринимается как «варварский уют». Здесь человек и птица символически уравниваются: мокрые люди и птицы издают неприятный запах и становятся беспомощными, требующими заботы. Свет лампы действует на соколов успокаивающе, как «гипноз». Напомним, что сильный свет лучей солнца в степи влияет на человека аналогично: словно от ослепительного света лампы следователя, он признается во всем. Символ свободы - птица становится таким же рабом, как и человек. Так метафора «кельи» сближает образы солнца, степи, дома, соколов и людей. Однако у Месёя становится аллегоричным не только механизм власти. Как видно из соотношения разных видов искусства, представленных в этой связи в повести, автором проводится поиск такой формы, которая может дать настоящую свободу и жизнь. Ею становится повесть, переписывающая разные рассказы, в том числе и следующий.
На другой день сокольничие с особой «красочностью» дополняют историю о грозной ночи новыми подробностями, словно перевоплощаясь в соколов. К примеру, Лилик детализирует, что мог чувствовать молодой балобан, «когда вода достала ему до шеи». В этом рассказе сливаются точки зрения человека и птицы, как в несобственно-прямой речи, и следуют утвердительные и отрицательные метафоры бури. Следить за чужаками, наносящими вред ферме, для Лилика равнозначно топтанию птиц на месте. Сближение основано на общем признаке действия ожидания: нетерпеливом предчувствии опасности при душной жаре и ослепляющих молниях. Как утверждает Лилик, буря - это «не охота» на цаплю, когда можно схватить добычу. В повести приводится нечто иное: в грозу можно столкнуться с результатом собственных поступков: убийства / расчленения птиц-жертв, останки которых теперь именуются «мусором», плавающим в воде.
Плата за поступки птиц и людей - смерть балобанов. Заведующего фермой очень огорчает «эта неожиданная утрата». Он устраивает поминки (реквием) для своих соколов, за исключением «бесполезного» чеглока, о котором скорбит лишь писатель. Ряд смертей и похороны птиц, свидетелем которых он был, вынуждают писателя покинуть ферму навсегда и написать о своем опыте совершенно иную повесть, чем от него ожидалось: не «репортаж о своих впечатлениях», а философское произведение о жизни и смерти.
* * *
В настоящем кратком сообщении рассматривался лишь один аспект из более крупного исследования поэтики повести Месёя «Высокая школа», а именно, постановка вопроса: каким видом искусства можно наиболее точно репрезентировать животных (игра), либо как оживлять мертвых существ (жизнь)? Письмо как особая форма выявляет кризис жизни (смерть в разных обличьях), речи («военный» слог фермы) и идеологии («строение легенды»), которые переосмысляются, а сам акт письма (процесс созидания свободного поэтического слова) становится смыслом личной истории. В итоге же писатель отказывается от легенды о птицах, но создает повесть о пути к своему собственному дискурсу - о жизни и смерти. Предметом дискурсивного анализа [см. Kovacs 2004] стал процесс развертывания в тексте повести основных метафор искусства, природы и птицы.
Список литературы Искусство и жизнь в повести М. Месёя "Высокая школа"
- Месей М. Высокая школа / пер. Ю. Гусев // Месей М. Венгерская новелла. Повести. Budapest: Pont Kiado, 1997. С. 5-75.
- Gorozdi J. Hangyasfras, csillagmorajlas. Elhallgatas-alakzatok Meszoly Miklos Msmftveszeteben. Pozsony: Kalligram, 2006.
- Kovacs A. Diszkumv poetika. Budapest: Argumentum, 2004.
- Meszoly M. Magasiskola: regenyek es elbeszelesek. Bukarest: Kriterion Kiado, 1985.
- N.Tóth A. Szövegvándor. Közelítések Mészöly Miklós prózájához. Pozsony: Kalligram. 2006.
- Szirak P. Folytonossag es valtozas. Debrecen: Csokonai, 1998.
- Szollath D. A Magasiskola ot olvasata // Jelenkor. LXI.10. 2010. 1169.
- Thomka B. Meszoly Miklos. Pozsony: Kalligram, 1995.